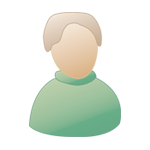Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
  |
 3 Сентябрь 2007, 17:36 3 Сентябрь 2007, 17:36
Сообщение
#1
|
|
|
Шехерезада 181 ИЛЭ Группа: Бывалый Сообщений: 1344 Регистрация: 10 Июнь 2007 Из: Кокпит Пользователь №: 6752 Раса: Мандалорианка |
Для модератора
Только что обнаружила, что невольно нарушила правило "один автор - одна тема". Приношу свои извинения за невнимательное прочтение правил и прошу оставить за мной обе темы, под торжественное и нерушимое обещание дальше не размножаться. Просто стихи и прозу лучше не смешивать, а я пишу и то, и другое. Кровь Луны День да ночь – сутки прочь. Лигу за лигой отмеряют крепкие копыта гривастого степного скакуна, словно отлитые из железа. Даже подковы ему не нужны – и без них не оскользнется, не оступится ни на мокрой от утренней росы траве, ни на каменистой осыпи речного крутояра, ни на лесной тропинке, где то и дело лезут под ноги узловатые древесные корни. Хамач – конь-гусь, так зовут сами кочевники эту породу. Может, и уступает такой гусь горделивыми статями лебяжье-белым эргизам, на которых любят красоваться принцы и знать. И ростом не вышел, и шея не такая длинная, и ноги не настолько стройные. Зато может такой гусек бежать нетряской, мерной рысью, пока всадник сам с седла не свалится от усталости. Эргизу же после каждых трех-четырех лиг нужен отдых. И если ехать в дальний путь, то первым придет все-таки степняк. Княжеский дознатчик, как и положено не последнему лицу при дворе, белоснежного красавца на конюшне держал. Но по срочному делу – оскорбление Храма! – велел оседлать для себя неутомимого хамача. Там, где эргиз будет выгибать шею и перебирать точеными ногами два дня, степняк добежит за сутки. Хватило бы сил у седока. У Тайвора сил хватило, благо умница-хамач, почуяв, что хозяин задремал в седле, сменил рысь на иноходь, пусть и менее устойчивую, но куда более спокойную для седока, и понес его, плавно покачивая с боку на бок, знакомой тропой до Селища. Продремав пару часов, дознатчик вскинулся – в рассветном лесу тихо, даже птицы еще молчат, и когда в такой тишине прямо из кустов под ноги коню вываливается с треском черная тень, это действует, словно раскат грома. Хамач всхрапнул, сбиваясь с иноходи, шарахнулся в сторону, разворачиваясь головой к нежданной напасти, давая всаднику драгоценные секунды на то, чтобы опомниться и схватиться за оружие. Опытный конь, боевой… Тайвор плотнее сжал ногами крутые конские бока, легкая сабля свистнула, покидая ножны, заходящая луна на миг посмотрелась в узкое зеркало булата сквозь прореху в листве – и тут напасть заговорила человеческим голосом, падая на колени. – Господин, не губи! Тайвор проморгался, вгляделся пристальнее, тихо выругался сквозь зубы. Неведомый враг оказался мальчонкой, которому едва ли сравнялась дюжина лет. Даже в сумраке леса видно было, как лихорадочно блестят огромные от страха и волнения глаза на детском лице. – Кто таков? – строго спросил княжий слуга. Уж если среди ночи дети под копыта бросаются – тут самое время разобраться, с чего бы это им не спится, когда самый сон… – Вяшко я, господин, из Поддубков! – зачастил мальчонка. – Господин, смилуйся, заверни к нам! Я через лес бежал, боялся, не успею… Тайвор мысленно присвистнул. Напрямик через чащу? Да это подвиг. Он бы вот позадумался, соваться ли ночью в лесную чащобу, или стоит дождаться утра. Видно, большая нужда у парня. Только вот… – А скажи-ка мне, Вяшко из Поддубков, ты кого искал? Меня или кого другого? – Так вас же, господин! – удивился мальчишка. – Вы же дознатчик княжий? Тайвор прислушался. Тихо, ни звука больше, только мальчонка дышит, как загнанный эргиз, да хамач чуть всхрапывает, кося на парнишку горящим глазом. Никого вокруг… – А откуда ты на дороге взялся? Что-то не слышал я, чтобы ты по лесу шел. – Так с обрыва, господин, – пояснил Вяшко. – Как увидал, что не успеваю, и кубарем вниз… Там тропка-то есть, только она в обход, точно бы не успел… – Понятно… – дознатчик призадумался, потом одним движением вбросил саблю в ножны. – А как узнал, что я тут поеду? – Так в Селища-то дорога одна! – пояснил, поднимаясь с колен, мальчик. – Мимо бы никак не проехали. Я как узнал, что оттуда к князю посылали, так и смекнул… – А что, другой дороги не нашел, кроме как через лес? – Как не найти, – мальчонка разом набычился. – Только ту дорогу староста еще с полудня велел перекрыть и приказал никого из наших не выпускать. Чтобы, значит, никто не подался до князя, как селищанские. – И что за нужда у тебя к дознатчику, Вяшко из Поддубков? – Господин, ради Подателя, заверните к нам! Там лекарку нашу, Весану, казнить хотят! Без суда – мол, и так все ясно! Окажите милость, хоть скажите им, чтоб не трогали ее, пока вы в Селищах не разберетесь! – А что такого твоя лекарка сделала? – Тайвор знал, что одиннадцать из дюжины уже давно отогнали бы мальчишку и поехали своей дорогой. Но он был тем самым двенадцатым, кто считал, что любой из подданных князя, от мала до велика, имеет право на правосудие. И если о правосудии просит ребенок, его возраст – не повод для отказа. – Дедушку отравила, – всхлипнул Вяшко. – Моего дедушку. Только она не виновата, господин! Она честно лечила, это ей кто-то лекарство подменил, я точно знаю! – Погоди, не части. Что значит – не виновата, если отравила? – Она думала, что лекарство дает! – мальчонка, судя по всему, собирался снова бухнуться на колени. – Откуда ж ей было знать, что там сок луноцвета? Тайвор поежился. Сок луноцвета – страшная вещь… И страшная смерть. Безошибочно определить причину гибели можно по тому, как белеют губы и глаза отравленного. И по тому, как сводит судорогой, не отпускающей и после смерти, все тело. – Она не знала – а ты, получается, знал? – тихо спросил дознатчик. Вяшко замотал головой. – Никто не знал, господин, пока дедушка не умер. Но она его уже год лечит – и ничего не было, а вы же сами знаете, после черной хвори больше луны не живут! Она его с того света вытащила, в самую топь за травами лазила, чуть не утонула пару раз. Я сам видел – приходила с болот по самое горло в тине! Разве ж после такого станешь травить? Да и зачем ей это? Дедушка в ней души не чаял, и она его как родного любила! – Не части, – еще раз одернул мальчишку Тайвор и снова задумался. Хамач нервно переступил с ноги на ногу – ему не стоялось. Вяшко подавился очередным доводом в защиту убийцы – вольной или невольной – его деда, и теперь молчал, с надеждой глядя на дознатчика. – Ну, что поделать, – вздохнул наконец Тайвор, нагнулся, подхватил с земли щуплого мальца и усадил перед собой в седло. – Показывай свою тропинку… Селища подождут – там, по крайней мере, все живы. Вскоре княжий слуга в полной мере смог оценить самоотверженность мальчонки. Тропка, начавшаяся в зарослях бузины через сотню шагов вперед по дороге, привела их на кромку откоса. Даже хамач всхрапнул и нервно покосился вниз, на дорогу, которая отсюда казалась потерянным беспечной вертихвосткой узким пояском. Как только шею не свернул малец? Дальше – больше. Тропка нырнула с каменистой гривы вниз, закружила по краю трясины – только оступись, и поминай как звали. Подвиг ночного похода сквозь лес начинал отдавать подлинным героизмом. Или безумием. Когда неровная тропа краем болота наконец свернула в холмы, и покосившиеся тощие, скрюченные ели сменились сумрачным покоем вековых дубов-великанов, Тайвор испытал невероятное облегчение – словно поднялся из склепа. Бывалому воину и то было не по себе – каково же пришлось ребенку? А ведь пошел… Стало быть, было для чего идти. Неизвестная лекарка невольно начинала казаться невинной жертвой. Если ради нее рискуют жизнью, то она должна того стоить. Тайвор недовольно покачал головой и отогнал непозволительную для дознатчика симпатию к преступнице, которую и в глаза еще не видел. Мало ли какие причины могли сподвигнуть мальца на поступок, какой сделал бы честь и дружиннику? Тайвор мог полагаться только на факты. А фактов он пока знал два: лекарка отравила больного и ее собираются казнить, не прибегая даже к княжескому суду – настолько ее вина очевидна для всех. А еще – что староста очень не хочет вмешательства правосудия. – Вон там ее изба, – показал Вяшко на крытую потемневшим тесом крышу. – Там Весану и держат. А как солнце встанет, поведут в трясине топить. – Понятно, – дознатчк придержал хамача на окраине деревни, ссадил на землю мальчишку. – Дуй домой, а увидят, соври что-нибудь. Но меня ты не звал и в глаза не видел. – Храни вас Податель, господин… И только босые пятки застучали по тропке между дворами. Весана тихо сидела на лавке, глядя в неумолимо светлеющее окно. За запертой снаружи дверью похрапывал Вескер, приставленный сторожить – чтобы не сбежала, караульный, сын старосты. Сбежишь тут, как же… Стянутые за спиной руки понемногу немели, наливаясь дурной кровью. Вескер и связал, сопя от усердия, а она его этими руками у смерти вырвала… Змееныш… Да кто еще мог родиться в змеином логове? Весана горько усмехнулась. Знала ведь, что затаил злобу старый змей, а не подумала, что ужалит. Ужалил… И как ужалил – в самое сердце! Вот поднимется солнце – и конец ее недолгой жизни, мешок со снадобьями на шею, камень к ногам – и в болото, в то самое, где она со смертью в салочки играла, добывая самые сильные коренья, самые чудодейственные травы… Вот только луноцвета ее руки никогда не трогали. Только кому теперь докажешь, кто станет слушать ее оправдания? Знают селяне, что не виновата, а против старосты кто же голос подымет? Не найдешь такого, крепко держит всех за глотку старый оборотень… Храп оборвался, послышалась неразборчивая брань. Помяни зверя – он и на порог. Дверь распахнулась, пропуская старосту. Рослый и кряжистый, он с трудом протиснулся в избу, смерил лекарку торжествующим взглядом заплывших салом глаз. Весана продолжала смотреть в окно. Вид на болото, над которым медленно занимался кровавый рассвет, был куда приятнее. Поросшая рыжими волосками лапища вцепилась в растрепанные косы, староста насильно повернул девичье лицо к себе, ухмыльнулся, глядя в прозрачные зеленые глаза, под которыми залегли темные окружья. – Что, гордячка, не захотела по добру со мной – теперь по худу придется… Может, передумаешь еще? Смотри, я ласковый… – То-то твой сынок за дюжину лет одиннадцать жен сменил, с твоей ласки, – тихо отозвалась Весана. – Уйди с глаз, постылый. Чем твоя ласка – лучше в бучило за чужую вину… Староста с размаха ударил ее по губам. Лекарку сбросило со скамьи, она неловко упала на пол, стукнувшись золотоволосой головой о печку, затихла. Староста обеспокоено нагнулся – не убил ли часом? Слишком легко отделается тогда, никакой радости. Наткнулся на ненавидящий взгляд, хохотнул. – Гляди-гляди. Теперь не укусишь… – он повернулся к двери. – Эй, там! Забирайте тварь! Весана не стала сопротивляться, когда ее в четыре руки подхватили и поволокли вон из избы. Вместо отчаянных попыток вырваться, мольбы о пощаде, рыданий и звериного воя – каменная отрешенность. Такой утехи староста не дождется… Она уже смирилась с тем, что умрет, она и не ждала ничего иного с того момента, как увидела скрюченное тело человека, заменившего ей отца, и его побелевшие губы. Но когда не остается даже последней надежды – на чудо, никто не в силах отнять последнего утешения. Твердой уверенности в том, что названному отцу не в чем будет ее упрекнуть перед Подателем Жизни. И она чуть не заплакала в голос, когда раздался стремительно нарастающий топот копыт, оборвавшийся у самой избы, и властный голос с едва уловимой издевкой произнес: – Что, почтенные, самосудом занимаемся? Цепкие руки разом разжались, Весана упала в пыль – ноги отказались держать ее, в голове звенело после затрещины, и в глазах плыли разноцветные круги. Но она ухитрилась разглядеть вышитую серебром ищейку на его рукаве, когда тот развернул коня к старосте. Княжий дознатчик! Какой болотный дух его принес? Так бы утопили – и все, а теперь не отделаешься так просто. Теперь – допрос, а не сознаешься – так и пытка. А в чем сознаваться? В том, чего не совершала? Под всадником приплясывал и горячился бурый длинногривый жеребец. Он теснил к избе старосту, тот отступал, пока не уперся спиной в стену. Опомнившись, заюлил, запетлял болотным гадом: – Что вы, господин дознатчик, какой самосуд? Тут и судить-то нечего, все ясно как белый день! Отравила своего благодетеля, ведьма, приблуда болотная, видно, на наследство позарилась… у-у, змеюка подколодная… ишь, смотрит… Тайвор только вздохнул, когда лекарка, упавшая на дорогу, повернула к нему выпачканное пылью и кровью из разбитых губ лицо. Вот почему у отравителей так часто встречаются такие лица? Нежный овал лица, и золото кос, и прозрачная зелень глаз – словно солнце просвечивает сквозь листву. Посланница Подателя, да и только… – Наследство, говоришь? И что, большое наследство? – спросил Тайвор, с трудом отрывая взгляд от бледного лица лекарки. – Стоит того, чтобы за него отравить? В толпе сельчан послышались сдавленные смешки. – Большое! – отозвался кто-то из толпы. – Вошь на цепи да блоха на аркане! Весана-то побогаче старика жила! Еще и подкармливала их с мальчонкой! – Это кто там такой говорливый?! – рыкнул староста, двинувшись на толпу – и тут же отлетел обратно к стене. – А что это ты, почтенный, людям рот затыкаешь? – поинтересовался дознатчик. – Они вот говорят – не было наследства. Да еще мальчонка какой-то, а он, видно, первый наследник, а? – Да то ж внук его! – поддакнул другой голос. – Лекарка их обоих о то лето выхаживала, старика да мальца вытащила, а вот брата своего названного – не смогла. Тому дюже худо было. – Не смогла? Скажи лучше – залечила! – снова рванулся на селян староста – и снова его осадили. – Что ты человеку слова сказать не даешь? – удивился Тайвор. – Я дознатчик, мне всех выслушать надо, не тебя одного. – Я тут староста! – окрысился тот. – И никаких дознатчиков не звал! Тайвор улыбнулся – и староста побелел от этой улыбки. – То есть, почтенный, тебе княжий суд – не указ, и княжьей власти тебе не надо, так тебя понимать прикажешь? – ласково осведомился дознатчик. – Так и передать князю? Мол, поддубчане воли захотели, княжьей властью сыты по горло, сами по себе жить хотят? И тут толпу прорвало. Какая-то баба кинулась в ноги коню, заголосила: – Смилуйся, добрый человек, обскажи князю! Нет сил терпеть! Ставил нам князь пастуха, а пастух оказался пуще волка в Лютый месяц! С сынком своим всю кровь из нас выпили, шагу никуда без своей воли ступить не дают! Девок всех перепортили, у мужей жен забирают, народ смертным боем бьют! Защити! – Цыть, дурёха! – вызверился староста и осекся, когда один за другим селяне начали жаловаться княжьему слуге. А пожаловаться им было на что… и только Весана молчала, с трудом приподнявшись и сев с опущенной головой. – Тихо! – зычный голос дознатчика заставил умолкнуть толпу. – Понял, обскажу князю, что тут у вас творится. Только вот что с лекаркой вашей делать прикажете? Серьезную вину на нее староста возложил. Много ли народу от ее лечения пострадало? Люди запереглядывались, зашептались. Наконец кто-то подал голос: – Что отец ее названный от луноцвета умер, то верно. Только не могла Весана его отравить. Не ее рук это дело. За все время, пока она лечит, только двоих и не смогла спасти – брата своего, да вот еще невестку старостину. – А почему брата не спасла? – допытывался Тайвор. Ответила сама Весана – неожиданно сильным, глубоким голосом: – Он с обозом ходил, господин. Там и подцепил черную хворь, домой совсем больной вернулся, да успел отца заразить и сына своего. Их-то я вылечила, а брату только Податель мог помочь… Но дальше этого дома я хворь не пустила. – Помолчала бы, ведьма бесстыжая! – зашипел сын старосты. – Милаву мою не черная хворь забрала – ты ее загубила! – Милаву твою не я загубила, а твои кулаки, – ответила лекарка. – Дитя у нее во чреве ты побоями убил, от этого она и умерла. Тут мой дар бессилен. – Да если бы только Милаву! – взвился над толпой женский плач. – Одиннадцатой Милава была, господин, одиннадцатой! И ни одна своей смертью не умерла! Каждый год Вескер новую жену брал, девки воем выли – а куда денешься? Ни одна больше года не прожила, или руки на себя наложит, или как Милава… – А что ж вы, почтенные, князю не жаловались? – спросил слегка опешивший дознатчик. – Жаловались, – хмуро отозвался один из селян. – Ходили тут до князя… Только тех жалобщиков потом и следа не находилось. Был человек – и нету. Глубокие топи в Затарье, на всех места хватит… – Понятно, – обронил Тайвор, поглядел на притихшую толпу, перевел взгляд на лекарку. – Руки-то ей развяжите, не сбежит. Несколько человек бросились выполнять приказ. Развязать туго затянутый узел не удалось, тогда веревку просто перерезали. – Поди, теперь староста стоимость пут в долг запишет, – хохотнул кто-то. Весана ничего не сказала, только посмотрела исподлобья, растирая опухшие и посиневшие руки негнущимися пальцами. Тайвор соскочил с коня, бросил поводья на столбик плетня, присел на крыльцо лекаркиной избы. – Так, почтенные, самосуда я вам творить не позволю. Со старостой вашим князь сам разберется, если вы и дальше молчать не будете. Подались бы всем селом жаловаться – уж всех-то он бы точно в топь не спровадил. Сами виноваты, что столько лет терпели клеща на шее. А теперь делом займемся. Ты, милая, на меня волчицей не смотри, мое дело не плетью правду выбивать, а расспрашивать. Почему ты знаешь, какой хворью Милава умерла? – В тягости она была, господин, – отозвалась лекарка. – Приходила ко мне спросить, не ошиблась ли, точно ли затяжелела. А как узнала, что точно понесла, так заплакала и сказала, что вот и ее время пришло. Так и сталось… Луны не прошло – принесли ее ко мне, всю в синяках от побоев. На животе живого места не осталось, и запах от нее шел, как от покойника. Сама она еще жива была, стало быть, дитя в чреве гнило. Оно ей и отравило кровь. Огневицу не вылечить никакими травами, если она от чрева идет, господин… – Это знаю, – кивнул дознатчик. – А пробовала хоть помочь? – Пробовала. Только она трех дней не прожила. – Ведьма! – прошипел Вескер, с ненавистью глядя на лекарку. – Была бы ведьмой – сумела бы твою хворь вылечить! – отрезала Весана. – Может, тогда бы и отцу твоему кое-что попридержать пришлось! – Какую хворь? – тут же спросил Тайвор. – Кабанью, господин, – пояснила лекарка. – Еще парнем переболел – разнесло в паху, и на лицо – подсвинок подсвинком. Я тогда еще только у отца училась, а помню, как он говорил: поздно, мол, старый змей своего змееныша привел, не будет теперь у него детей. То и верно – сколько бы девок ни портил, а ни одна не понесла. – Погоди, а от кого тогда Милава затяжелела? – удивился дознатчик. – От того же, от кого все остальные Вескеровы жены, – тихо отозвалась Весана. – От его отца. Вескер ко мне сколько ходил, да что Податель отнял, человеку того не вернуть. Потому и бил смертным боем своих жен, что знал – на стороне нагуляла. А тем как было сказать, кто отец ребенка? Они старосту пуще смерти боялись… Он и ко мне подкатывал, да только я ему пообещала, что все Вескеру расскажу, он и отстал… – Не слишком ли осмелела, тварь?! – рявкнул староста. – А мне так и так умирать, – Весана повела зелеными глазами на толпу. – Вон сколько пришло провожатых – в последний путь меня отвести. Погодите немного, люди добрые, вот господин дознатчик закончит спрашивать, и пойдем… Селяне отводили глаза – почти все тут были обязаны ей жизнью, если не своей, то кого-то из близких. Вескер же стоял, словно окаменев, оглушенный новостью, и в темных глазах его медленно разгоралось пламя. – А вот отца своего – как его звали, кстати? – ты как отравила? – спросил Тайвор. – Кинир его звали, господин, – пояснил кто-то из толпы. – Отравила я, – тихо сказала лекарка, – но яд не я готовила, и в настой не я вливала. Только ведь вас не это заботит, господин. Из моих рук отец смерть принял, мне за то и отвечать… – Кому отвечать, видно будет. А скажите, почтенные, откуда лекарка Весана свои травы носила? – С болот, господин! – тут же встрял староста. – Только по болотам и шлялась, приблуда… – Только по болотам? – уточнил Тайвор. – Только по болотам! – подтвердили в толпе. – За деревню-то, на тракт, староста не очень пускал, только с его дозволения все, а на болото – то пожалуйста, путь никому не заказан. – А лекарство для Кинира, милая, ты с собой носила или у него держала? – У отца бутыль стояла, – пожала плечами лекарка. – На горлышко я красный лоскуток повязала, чтоб не спутали. А так – он и сам лекарь был не из последних, меня учил, что ж мне от него сторожиться? – А кто в дом Кинира мог доступ иметь? – продолжал допытываться дознатчик. – А кто угодно, почитай! – отозвался кто-то. – Весана все по болотам, оголец за ней – учила она его, а старик – тот все спал. Заходи, кто хочет, бери, что душа просит… только брать там нечего было. – Понятно, – подытожил Тайвор. – И что у нас получается, почтенные? А получается у нас… – он обвел взглядом притихшую толпу. – Получается оговор. Если лекарка Весана не выезжала из деревни – а она ведь не выезжала? – Не выезжала! – тут же подтвердили в толпе. – А раз не выезжала, так где она тогда луноцвет взяла? – Как где? – удивился староста. – Так на болоте же! – Не растет луноцвет на болоте, – вздохнул дознатчик. – Только на песчаных холмах, каковые от этих мест за неделю пути на хорошем коне, да с подставами. А вот кто туда ездил, я спрошу, как из Селищ вернусь. До тех пор указываю: лекарку Весану не трогать, если же к моему возвращению с ней случится нежданная хворь, от которой у нее не найдется лекарства, я приглашу сюда некроманта. И у ее духа спрошу, кто к этой хвори приложил руки. Лекарке же впредь никого не лечить, даже если случится черная хворь. Потому как обязана была проверять, что больному дает, если лекарство не у себя дома держала. Если же захочет из села уйти – не отпускать, пока я не разрешу. Все поняли, почтенные? – Как не понять, – отозвалась толпа. – А раз поняли, так до встречи, почтенные. Тайвор забросил поводья на шею скакуна, вставил ногу в стремя. – А как же нам без лечения-то? – запоздало взвился одинокий голос. – Болота рядом, то и дело к ней бежим! – А как вы собирались лечиться, утопив ее в трясине? – осведомился дознатчик, разбирая поводья. Застоявшийся хамач затанцевал, перебирая ногами. – Вот так и полечитесь. И только пыль взвилась над дорогой. Дело в Селищах оказалось сущим пустяком. Оскорбление, нанесенное служителю Подателя, при ближайшем рассмотрении вылилось в дешевый фарс. Пожелавший нагреть руки на религии храмовый служка начал проповедовать на всех углах, что подающий слуге Подателя подает самому Подателю, и тому, кто это делает, Податель воздаст втрое. Нашлись доверчивые. Спустя какое-то время на конюшне у служки всхрапывали несколько сытых кобылиц, которых рачительный хозяин начал сдавать внаем. На вопросы, почему плата за коней, подаренных Подателю, идет в карман служки, а не в казну Храма, увертливый слуга Подателев пояснял, что кони всего лишь отрабатывают собственное содержание. Тот факт, что кони на конюшне почти не бывают, следовательно, никаких расходов на их содержание нет, стыдливо обходился стороной. Так продолжалось, пока один из местных кузнецов, не отличавшийся большим благочестием, не собрался в долгую дорогу – надо было ему съездить аж до Полночного хребта, поучиться новому методу ковки. Князь такое рвение одобрил, на дорогу ссудил деньгами, семью пристроил в замке. Вот только конек кузнеца к конюшне замковой не пришелся – начал холеных эргизов задирать, к породистым кобылам подбираться. Кузнечиха подумала-подумала, и не надумала ничего лучше, чем непоседу определить на постой к тому самому служке. Служка возражать не стал, конек, почуявший женское общество, тоже. На том и порешили. Кузнечиха от доли в плате за коня отказалась, поставив лишь одно условие – к возвращению супруга тот должен быть сыт и здоров. Кузнец вернулся через год, отчитался князю, обнял жену, перецеловал своих отпрысков, и спросил про коня, после чего прихватил кол покрепче и пошел вызволять животину. Служка сделал невинное лицо. Какой, мол, конь? Супруга твоя его в дар Подателю отдала, я за то весь год за тебя молился исправно, и Податель милостью не оставил. Вернулся ведь цел-невредим? Вернулся. Восславим Подателя. Кузнец и восславил... А когда услышавший голос хозяина жеребец вынес копытами дверь конюшни и прибежал к нему, за ним подались и две оказавшиеся в тот день без работы кобылы. Служка, потирая бока и охая, потребовал кобыл вернуть. Кузнец напомнил про «воздастся втрое» и намекнул, что с Подателя еще одна кобыла. Этого ретивый служитель Храма вынести уже не мог и послал к князю, требуя правосудия. Правосудие было скорым. Как только Тайвор просмеялся и отдышался, он велел выдать кузнецу недостающую лошадь. Ибо в противном случае пострадает репутация Подателя, а этого ни в коем случае нельзя допустить. Кузнеца же обязал бесплатно починить сломанную дверь и развороченное стойло. С тем и уехал, под сдавленные проклятия служки и благословения уверовавшего кузнеца. В самом лучезарном настроении он едва не проехал мимо поворота на Поддубки. Вовремя спохватился, свернул на полузаросшую дорогу. Нечасто тут, видно, ездят, надо будет и это князю обсказать. А то скоро тут на телеге не продраться будет – подлесок все заглушит. Следить же за дорогой – дело старосты. Тайвор помрачнел. Не любил он таких скользких типов. С гнильцой человек, да видно, невелика она была, когда князь его старостой сажал в Поддубки. А как почуял власть, так и развернулся во всю свою подгнившую душонку… Это ж надо – сколько девок извели… И не скажешь, что завистники врут, или там наказанные – не может все село одинаково врать. Убирать надо старосту. И как по его, Тайворову, разумению, убирать в ту же топь. Как бы это ни противоречило правосудию. Но князю такого, конечно, не скажешь… Вздохнув, Тайвор подтолкнул каблуками коня. Хамач покосился на седока – куда, мол, торопишь, не видишь, тут чуть ли не бурелом, да и солнце на закат пошло, тени ложатся, дорогу прячут? Но прыти прибавил. Однако все равно опоздал. Первое, что увидел дознатчик, въехав в село, была толпа. Очень молчаливая. На стук копыт люди обернулись, узнали княжьего слугу и молча расступились, давая ему проехать. В центре оказалось неподвижно лежащее тело, над ним – сгорбленная фигура старосты со связанными за спиной руками. На миг захолонуло сердце – неужто лекарку все-таки убил? Оказалось, нет. Сына. Как рассказали Тайвору, после отъезда дознатчика эти двое ходили мрачнее тучи, и оба косились на Весану, но тронуть не решились – побоялись с нечистью связываться, некроманту ведь придется душу отдать. А как тогда Подателю на глаза показаться, без души-то? Зато друг на друга кидаться им никто не запрещал. Селяне смотрели, как отец с сыном кружат один вокруг другого, но встрять боялись. И к вечеру два змея сошлись не на жизнь, а на смерть. Схватка была короткой, но страшной. Потерявшие человеческий облик люди полосовали друг друга ножами, а когда не осталось сил сжимать рукояти, рвали друг друга зубами, пока не затихли. Только после этого поддубчане решились позвать запершуюся в избе лекарку, чтобы посмотрела – живы или нет? – Но лечить она не лечила, господин! – поспешно заверили дознатчика. – Только посмотрела. Староста жив оказался, мы его сами перевязали, как могли, и связали вот. И стали твою милость ждать, чтоб решил, что делать. «Вот не могли до моего приезда в болоте его утопить, а?» – печально подумал дознатчик, и принялся раздавать приказания. Попутно выяснил, что на целую луну из села совсем недавно уезжал только убитый Вескер – как староста объяснил, присматривать себе невесту в других местах, и что никаких купцов за последние полгода в Поддубках не было. Этого Тайвору хватило, чтобы понять, кто подлинный виновник смерти старого лекаря – луноцвет не заготовишь впрок, его сок сохраняет свои смертоносные свойства только три недели, после чего его хоть упейся. Ну, разве что животом станешь скорбен, однако к Подателю точно не попадешь. Но для уверенности дознатчик все-таки осмотрел руки убитого. Если тот не знал о свойствах сока, то мог сам его заготовить. Мелкие, но еще не зажившие язвочки на коже Вескера убедили Тайвора, что он не ошибся. Луноцвет – взгляд Луны, его сок – кровь Луны, человеку с ним лучше дела не иметь… Отправив убийцу с сопровождающими на подводе в замок на княжий суд, если доживет, конечно, Тайвор велел привести Весану. Лекарка пришла, встала перед ним, не глядя на людей, прикрывая рукавами вздувшиеся рубцы на запястьях. Заметив маслянистые пятна на рукавах и уловив резкий травяной запах, дознатчик покачал головой. – Мазь еще отец делал, – тихо сказала лекарка. – И лечиться самой господин мне не запрещал. А если не смазать руки, может начаться огневица, и тогда их останется только отрубить. Как женщине жить безрукой, господин? – Успокойся, милая, я вовсе не желаю тебе увечья. Просто удивляюсь ненужной жестокости. Зачем было связывать тебе руки, ты бы все равно никуда не делась из запертой избы. В твое оконце разве кошка проскочит, я видел. – Они были очень злы на меня, – все так же тихо отозвалась Весана. – Что нужно от меня господину? – По Правде я должен бы распорядиться заклеймить тебя, как убийцу, но ты не хотела смерти своему благодетелю, и если повинна в чем, то в преступной неосторожности, а за это не клеймят. Потому накажу я тебя легче. Вместо клейма на лоб тебе наложат рисунок соком ягод лазоревника. После этого ты вольна идти куда захочешь или остаться, а как рисунок пропадет, считай, что вина твоя с тебя снята. Весана порывисто вздохнула. Сок лазоревника оставлял несмываемые пятна на коже, не сходившие по десять лет, и смыть его было невозможно – только срезать вместе с кожей, оставив безобразный рубец. Однако и такое наказание было лучше, чем клеймо – от того не избавиться до самой смерти. Лекарка низко поклонилась княжьему слуге. – Господин очень добр. Если мне будет позволено, я поселюсь на болоте. Тайвор удивился такой просьбе, но спросить ни о чем не успел – женщины, как одна, повалились на колени, жалобно причитая. – Что опять? – устало спросил дознатчик. – Господин, смилуйся, дозволь хоть роды ей принимать! – заголосили бабы. – Иначе хоть в болото – а ну как не разродишься?! И самой погибать, и дите губить! Не Вяшко же нашими бабьими делами заниматься! Если женщины и не собирались смущать княжьего слугу, им это все-таки удалось. Представив, как малец, пусть и успевший чему-то научиться у деда и Весаны, принимает роды, Тайвор смешался, покраснел и чуть не замахал руками на баб. – Добро, позволяю. Но не более того. И за малейшую провинность спрошу по всей строгости! Весана снова поклонилась – молча, но дознатчик успел увидеть благодарный блеск зеленых глаз. Видно, болела лекарка душой за свою непутевую деревню. Зато бабы взвыли в голос, призывая на голову княжьего слуги все милости Подателя. От такого обилия благословений дознатчик мигом оказался в седле, но не умчался во всю конскую прыть – помедлил, наблюдая за приготовлениями к наказанию лекарки. – А зачем тебе на болоте жить, милая? – спросил он все-таки у Весаны. – Чтобы не видеть, как люди мучаются, не имея возможности им помочь, – был ответ. Рисуя знак на лбу Весаны, временно, до княжеского указа избранный миром новый староста разбавил сок лазоревника втрое. Не маслом, что увеличило бы стойкость краски, а просто водой. Но ничего не сказал об этом ни наказанной лекарке, ни поддубчанам, ни дознатчику. Княжий слуга нехитрую затею углядел, но сделал вид, что ничего не заметил. Селяне все равно будут таскаться к Весане на болото, и не только с бабьими надобностями. И вряд ли у нее хватит твердости им отказать. Сама не станет, конечно, через мальчишку будет лечить – подскажет, как отвар составить, от чего пить. Но долгие десять лет сократятся до трех с третью. Будет время у доверчивой лекарки подумать о том, что такое ответственность… Тем бы и закончиться этой истории, но Податель Жизни любит порой пошутить. Спустя три года пришлось Тайвору сопровождать князя селищенским трактом. Места были знакомые: вот тут выкатился под копыта коня малец Вяшко, вот тут безымянная могила, отмеченная Оком – и только дознатчик знает, кто тут лежит. Не довезли старосту до замка, а уж сам ли он умер от ран или сопровождающие помогли, Тайвор дознаваться не стал. Княжья Правда – княжьей Правдой, Покон Подателя – Поконом, а в Затарских топях закон свой. И порой княжий слуга подумывал, что последний посправедливее прочих будет. Но вслух своих мыслей никому, разумеется, не высказывал. Дружины князь взял с собой мало – не на сечу собирался, сыну невесту присмотреть. Пяток ратников уехал вперед – проверять дорогу, князь же с дознатчиком задержались, неторопкой рысцой продвигаясь по лесной дороге. Тут и запела стрела… Княжий эргиз повалился, как подкошенный, но мгновением раньше князь, увидев торчащее в конской шее оперенное древко, успел высвободить ноги из стремян, и теперь с испещренной сеткой обнажившихся корней земли навстречу нападающим поднималась смерть. Взвизгнула сабля, рассекая воздух, и обломки разрубленной на лету стрелы упали вниз. Тайвор сам соскочил с коня, не дожидаясь, пока его спешат, и тоже обнажил клинок, пытливо всматриваясь в лесную тень. В сплетении ветвей мелькнуло на миг знакомое лицо, и дознатчик тихо выругался сквозь зубы. Один из поддубчанских, из тех, что не орали со всеми, а смотрели молча, исподлобья. Бирючьё. Прихвостни бывшего старосты. Не один же он все село держал в кулаке… Не унялись, стало быть, поквитаться решили за прошлую сладкую, вольную жизнь… И сколько ж их тут, мстителей за правое дело? Послышались шорохи с разных сторон. Не менее десятка, определил на слух дознатчик. Князь пришел к такому же выводу – потому что вскинул к губам сорванный с пояса охотничий рожок, и по лесу понесся тревожный сигнал. Шорохи затихли – а потом из кустов на дорогу начали выходить люди. Дюжина. Обросшие, оборванные, звероватые на вид – не вчера ушли в лес, не прижились при новом старосте… Князь молча указал Тайвору взглядом на свое плечо – прикрой спину. Так же молча дознатчик скользнул на указанное место, поворачиваясь к господину спиной. Коротко глянул на убитого жеребца, на сочащуюся из ноздрей кровь и пузырьки лиловой пены на губах. Яд! – Стрелы отравлены, государь, – шепнул Тайвор. – Ни одной не дайте себя коснуться, иначе – смерть. Корень болотного чернолиста, не выжить. Князь ничего не ответил – он следил за окружившими их людьми. Но про чернолист он знал. Погибель для коней, хотя лоси и кабаны едят его без вреда для себя. Человек подвержен действию яда меньше, но если попадет в кровь – не спасет никто. Двое суток мучительной агонии – и не менее мучительная гибель. Не было сказано ни слова. Несколько секунд налетчики кружили вокруг князя и дознатчика, а потом молча кинулись на них – так нападает волчья стая, так бьет жалом змея. Князь рассмеялся – легко и страшно, и бесценный кайланский булат запел в его руках, рассекая воздух и плоть с одинаковой скоростью. Успеют ли дружинники, нет ли – уже не имело значения. Посмевшие поднять руку на государя должны умереть – и они умрут. Трое из дюжины расстались с жизнью, не успев даже заметить этого. Легкий клинок свистнул, разом перечеркнув горло одному и почти срубив голову другому, на возврате порхнул к животу третьего – тот повалился, зажимая рану. Тайвор, на которого наседали пока меньше, пригнулся, пропуская над собой брошенный нож, и подрубил ноги неосторожно сунувшемуся вплотную разбойнику. Тот завопил, падая на собственный топор, и затих, но его крик словно сорвал чары безмолвия, наложенные неведомым злым колдуном на эту человечью стаю. Рыча, словно и впрямь стали зверьем, люди бросались на людей, и люди смеялись в ответ, а солнце бросало слепящие блики от наточенных топоров и сабельных клинков, и где-то гремел, нарастая, слитный топот двух десятков копыт. Дружина ворвалась в битву, как врывается на поле черный ветер, сметая и унося все, что было заботливо посеяно, выращено и сжато, уложено в скирды перед обмолотом, оставляя за собой лишь пустую землю. Все кончилось в одно мгновение, и Тайвор резким взмахом сбросил с клинка теплую кровь, переводя дыхание, постепенно приходя в себя после горячки сражения и оглядывая заваленную телами дорогу. Шесть… девять… одиннадцать… Одиннадцать?! Тренькнула в кустах тетива, дружинники вломились туда, выхватили из кустов приземистого мужика, но Твйвор туда и не посмотрел. Он в два шага оказался возле князя, успев подхватить на руки медленно оседающее тело государя с жестко подрагивающей оперением стрелой в плече. Отравлена или нет?! И если да – то что делать?! Дознатчик коротким свистом подозвал хамача, степняк выбрался из кустов, в которые забился, как только начался бой, послушно опустился на колени, давая хозяину возможность сесть в седло и усадить перед собой раненого. – Двоим – доставить эту падаль в замок, остальные – за мной! – приказал Тайвор, и дружинники повиновались беспрекословно. Через несколько шагов бурый степной жеребец под двойной ношей свернул на неприметную лесную тропинку, ведущую по самому краю Затарских топей. Из ноздрей князя выкатились первые алые бусинки крови. Весана никак не ожидала гостей – тем более таких. Когда за стеной ее избы затопали копыта, зазвенело железо и раздались властные голоса, она даже растерялась – кто бы это мог быть? Неужели кто-то донес, что она в нарушение запрета вылечила младенчика, которого принесла на болото отчаявшаяся мать? Но как было прогнать измученную женщину, как было оттолкнуть пылающее в лихорадке крохотное тельце? Она не смогла… Значит, пришла пора расплачиваться. Лекарский дар – он сродни соку луноцвета. Кровь Луны убивает – но мало кто знает, что может и спасти. Все зависит от дозы. И от того, как именно составлено лекарство. Чуть перепутаешь дозировку, не в том порядке смешаешь компоненты – и вместо чудодейственного настоя, который изгоняет из тела любую заразу, получишь смертельный яд. Так и дар целительства. Кому-то поможешь, а кому-то помочь не позволит Податель. Но винить-то будут лекаря… и мстить будут лекарю. Ребенка она спасла – а может, у соседки счастливой матери дитя умерло слишком быстро, чтобы его смогли хотя бы донести до избы на краю болота? Что сделает несчастная? Одна порадуется, что хоть кто-то другой счастлив. Другая – шепнет кому надо, и прощай, лекарка Весана… Дверь мало что не снесли с петель, Весана едва успела сбросить крюк и отскочить в сторону. В избу ввалились два воина, окинули взглядами лекарку, заглянули за печь, в сундук, в чулан с травами и горшками, почему-то в устье печи и под кровать, и так же стремительно вышли – словно вихрь пронесся, ничего, правда, не уронив и не разбив. Не успела лекарка опомниться от этого налета, как в дверь вошел человек, которого она запомнила на всю жизнь, которой ему и была обязана. Спаситель и палач, княжий слуга… Испугаться она не успела тоже – углядела раненого на руках у дознатчика. Вскинула удивленный взгляд на вошедшего, на снова появившихся в дверях воинов с мечами наголо. Но спросить тоже не успела ничего – Тайвор бережно опустил свою ношу на постель и выпрямился, глядя на лекарку. – Вылечи князя. Не просьба – приказ. Весана повернулась к кровати. Лиловая пена на губах и две струйки крови из ноздрей. Судорог еще нет, но пальцы уже начинают скрючиваться и подрагивать. Податель, стрела отравлена… и она даже знает, чем именно. – Князя? – переспросила лекарка. – Господин, ты сам запретил мне лечить! И обещал казнить, если нарушу запрет! Тонкие пальцы метнулись к высокому лбу, на котором едва просвечивал синий знак – знала ли сама Весана, что почти свободна? Было у нее время смотреться в зеркало, да и само зеркало было ли в этой избе? Тайвор кивнул на неподвижное тело на кровати: – Обещал. Но тебе так и так умирать. Думаешь, не знаю, сколько раз ты этот запрет нарушала? – ничего он не знал, кроме того, что слишком мягким было сердце лекарки, не вынесла бы она чужой боли. И по тому, как дрогнули губы, как расширились на миг зрачки зеленых глаз, понял, что угадал. – Вылечишь князя – умрешь. Не вылечишь – все равно умрешь, своими руками придушу, если дашь ему погибнуть. Так хоть не зря пропадешь. Дознатчик знал, что сейчас рискует многим. Что, если она откажется? Что, если начнет торговаться, выговаривая свою жизнь за жизнь государя, и теряя драгоценное время? Но иначе не мог. Прикусив губу, Весана колебалась несколько мгновений. Потом страх в глазах сменился обреченностью, у рта залегла горькая складка, и она изменившимся, чужим и холодным голосом распорядилась: – Тогда все из избы – вон! В сенцах котел стоит – нагрейте во дворе воды. И сюда не соваться, пока не позову. Молча кивнув, дознатчик вышел вслед за исчезнувшими дружинниками. Первым делом следовало удалить стрелу, чтобы не отравляла кровь сверх того, что уже попало в княжьи жилы. Распоров рубаху на плече раненого, Весана довольно кивнула – засела неглубоко, выйти должна легко. Дознатчику надо будет по шее этой стрелой дать, что сразу не вынул. Тщательно вымыв руки вином, лекарка вынула из корчажки с тем же вином пару коротких ножей, осторожно ввела их в рану по обе стороны от древка, чуть раздвинула. Прежде чем хлынула кровь, успела разглядеть наконечник – не зазубрен, и то слава Подателю. Продолжая удерживать ножи в ране, окликнула: – Господин дознатчик! Поди сюда! Тайвор немедля возник в дверях, сообразил, что происходит, и не дожидаясь объяснений подошел к постели. Примерился, аккуратно выдернул стрелу, отложил в сторону. – Почему кровь не остановишь? – спросил он, глядя на стремительно набухающую алым рубаху. – Кровь выносит яд, – отозвалась лекарка. – В другой раз сразу выдергивай стрелу, господин, не жди, пока отрава разойдется по телу. Привез бы ко мне его ослабевшим, но яда почти не осталось бы… а теперь трудно будет спасти государя… Сколько он весит? – Шесть камней, – удивленно ответил дознатчик. Весана молча кивнула, достала из сундука полотняные бинты, плеснула вина в рану и ловко наложила повязку. Из чулана принесла бутыль с плотно притертой пробкой, открыла – и по избе распространился дурманный запах. – Что это? – спросил Тайвор. – Яд, – коротко ответила Весана, и дознатчик понял, что она не шутит. – Для чего? – Тут Кровь Луны, специальным образом обработанная и смешанная с другими травами. Еще дед отца делал состав, – рассказывая, лекарка сунула в бутыль соломинку, прикрыла пальцем верхний конец и вытащила травинку, над плошкой для питья убрав палец. В плошку одна за другой упали пять капель. Чуть помедлив – шестая. Соломинка тут же была зажата, остаток жемчужно переливающейся жидкости Весана вытряхнула обратно в бутыль и тщательно закрыла ее, соломинку бросила в печь. – Может осилить почти любую хворь, но слишком опасно давать – как бы лекарство не оказалось страшнее болезни. Отец говорил, что капля на камень веса для здорового, сильного мужчины – почти наверняка безопасная доза. Весана устремила на Тайвора пристальный взгляд, держа на ладони плошку. – Мне дать ему это снадобье, господин? Ничем другим яд из его крови уже не выгнать. Государю, как и мне, все едино умирать – от того яда или от этого. Но он еще может выжить. Кровь Луны выжжет отраву и сама выгорит, а прочие травы остановят кровь и не дадут остановиться сердцу. Тебе решать, господин. Тайвор колебался только мгновение. Что такое смерть от чернолиста, он знал, и не хотел подобной муки государю. Если лекарка не лжет – а лжи он в ее голосе не уловил, то надежда на спасение есть. Даже малейший шанс спасти князя не должен быть упущен… Он забрал плошку у Весаны, плеснул туда немного вина и сам напоил князя. – Если государь умрет, отвечать будем вместе. Суд над преступниками состоялся через неделю. По княжьей Правде оба – и Весана, и Тайвор – подлежали казни. Княгиня, которую с утра осаждали просьбами о помиловании поддубчане, в легкой растерянности смотрела на коленопреклоненных лекарку и дознатчика, ждущих ее решения. Княжич по несовершеннолетию права вершить суд еще не имел, но и он с мольбой смотрел на мать. Привезенная княгиней за время болезни мужа девочка-невеста большими испуганными глазами смотрела на судилище. – И что мне с вами делать? – вздохнула княгиня. – За спасение государя – вас бы наградить, за то, что отраву ему дали – сами знаете. Наградить, а потом казнить? – Воля государыни, – отозвался Тайвор, не поднимая головы. Весана промолчала, прислушиваясь. За дверями судебной палаты возник невнятный шум. Распахнулась дверь, и на пороге появился князь – осунувшийся, бледный, но очень решительный. Княгиня вскочила, но Тайвор успел раньше – подхватил под руку государя, довел до кресла, бережно усадил и вернулся к лекарке, вновь опускаясь на колени. Весана встревожено смотрела на князя, выискивая следы слабости или возврата болезни, и успокоено опустила голову, удостоверившись, что государь поправляется. – Поднимитесь оба, – голос князя ослаб, но властности в нем не убавилось ни на маковое зерно. – Вы дали мне вторую жизнь, когда я прощался с первой, вы отныне – мои мать и отец. По княжьей Правде, подарившие жизнь есть родители, и не дело потомству казнить их. Тихий вздох прокатился по палате. Княжич только что не хлопал в ладоши, изо всех сил стараясь сохранить серьезный вид, помилованные растерянно переглядывались. – Так что теперь будет? – озадаченно спросила княгиня. – Как что? – удивленно спросил князь, ободряюще подмигнув будущей невестке. – Само собой, свадьба! Сообщение отредактировал Дара Райвен - 3 Сентябрь 2007, 21:09 -------------------- Моя точка зрения - прицел.
Просто язва. Ничего личного. Мы еще повоюем. 181 Inc Есть три вещи, которые многие люди не умеют делать с достоинством - проигрывать, стареть и умирать. (с) |
|
|
|
 12 Сентябрь 2007, 00:07 12 Сентябрь 2007, 00:07
Сообщение
#2
|
|
|
Орьен. Меч Мандалора Группа: Завсегдатай Сообщений: 2229 Регистрация: 21 Октябрь 2004 Из: Минск-Мандалорианский Пользователь №: 1312 Раса: Астэ-тайрон |
Мне понравилось. Хороший рассказ и хорошая стилизация.
Тайвор - явный профессионал и практик; закон есть закон и даже при смягчающих обстоятельствах наказывать надо. Правда, жесткие же в этой стране законы... И в других областях разбирается, судя по фразе о луноцвете; правда, видимо, все равно применительно к своей профессии. Замечу, что власть в народе определенно пользуется авторитетом, если приказ одинокого дознатчика вся деревня даже и не думает нарушать. Весана - целитель, причем такое ощущение, что с местным вариантом клятвы Гиппократа. Видишь - лечи. И неважно, какие последствия. А вот любопытно - когда она обозвала старосту оборотнем, это была лишь метафора? Правда, интересно, почему никто из жителей деревни раньше не подал жалобу? На ярмарку уехать, с купцом передать... можно донести весть до княжеских дознатчиков. Финал хорош. Интересно, как такая пара будет вместе жить? Занятия-то у них чуть ли не противоположные... -------------------- Должен - значит могу!
|
|
|
|
 12 Сентябрь 2007, 10:27 12 Сентябрь 2007, 10:27
Сообщение
#3
|
|
|
Шехерезада 181 ИЛЭ Группа: Бывалый Сообщений: 1344 Регистрация: 10 Июнь 2007 Из: Кокпит Пользователь №: 6752 Раса: Мандалорианка |
V-Z, спасибо!
Ну, на самом деле ляпов тут полным-полно, руки дойдут - выправлю. А купцы в ту деревню не особо заезжали, видимо... да и староста мог им намекнуть, что нехудо бы язык за зубами держать... *задумалась над очередным расследованием княжьего слуги* -------------------- Моя точка зрения - прицел.
Просто язва. Ничего личного. Мы еще повоюем. 181 Inc Есть три вещи, которые многие люди не умеют делать с достоинством - проигрывать, стареть и умирать. (с) |
|
|
|
 12 Сентябрь 2007, 10:40 12 Сентябрь 2007, 10:40
Сообщение
#4
|
|
|
Шехерезада 181 ИЛЭ Группа: Бывалый Сообщений: 1344 Регистрация: 10 Июнь 2007 Из: Кокпит Пользователь №: 6752 Раса: Мандалорианка |
Дракон и яблоки.
В одной из горных долин Дэль-Гервада есть селение, славное своими са-дами. Нигде больше нет яблок подобного вкуса и величины, подобного аро-мата. Нигде больше не встретишь таких сочных, тающих во рту груш, нигде больше персики не наливаются таким душистым золотым медом. Нигде больше не вызревает виноград, каждая ягода которого, размером с кулак, опьяняет без всякого вина и вдохновляет на сложение песен. Садоводы этой долины не склонны делиться секретами своего ремесла. Но у них есть на то причины… Всем известно, что каждая женщина переносит беременность по-своему. Одной легко, другой не очень, а третья мучается сама и мучает окружающих: то ей кисленького хочется, то солененького, то остренького… то совсем ни-чего не хочется, кроме как лечь и умереть. Надо сказать, подобные неприятности случаются не только с женщинами. Например, от них сильно страдают драконы… то есть, конечно, драконессы. Одних тянет на дичинку, других – на домашнюю скотинку. Третьим подавай принцесс. Нет-нет, почтенные, конечно же не драконы крадут королевских дочек. Зачем им такие неприятности на собственный хвост, когда можно по-лакомиться кабаном? Или, на худой конец, поживиться в крестьянском стаде, хотя овца или буренка пресновата на изысканный драконий вкус… Принцесс крадут именно беременные драконессы. Только им может прийти в голову безумная идея лезть в королевский замок, где полно и баллист, и лучников, и колдунов, и еще многих других неприятностей, только потому, что захоте-лось именно принцессу, а не какую-нибудь поселянку. Почему именно принцессу, спросите вы? Так ведь, во-первых, принцесса понежнее на вкус, а во-вторых, красавица. Что беременным нежелательно смотреть на уродливое, знают даже люди. А драконессы ведь не просто смотрят, они еще и едят, а это куда важнее. Так вот, почтенные, драконессу в интересном положении тоже может по-тянуть на что-нибудь не совсем обычное. А наша история как раз и началась с того, что молоденькую драконессу, назовем ее Йолин, потянуло на кое-что, для дракона уж и вовсе необыкновенное. - Мне так хочется яблок! – пожаловалась она знакомому дракону по имени Корби – Ворон. Свое имя этот достойный представитель драконьего племени получил за необычную угольно-черную окраску с изумрудно-лиловым отли-вом по чешуе. Рядом с ним золотая Йолин – Молния – буквально пламенела, вполне оправдывая собственное прозвание. Услышав, чего хочется подруге, Корби с лязгом уронил челюсть. Его бро-нированный подбородок высек россыпь искр из гранитного карниза, на кото-ром отдыхала эта парочка. - Яблок?! – выдохнул он. - Яблок, - смущенно подтвердила Йолин, изящно изогнув кончик хвоста – для человеческой женщины это соответствовало бы стыдливому румянцу. – Яблоки – они такие… такие… Какие они, Йолин объяснить не смогла, поскольку до сей поры ни один дракон яблок не пробовал, и совсем расстроилась. Тем не менее она твердо знала, что хочет именно яблок, а не кита или принцессу. - Хм, - сказал Корби, закрыл пасть и задумался. Разумеется, он, как и вся-кий дракон, знал, что у беременных часто бывают различные причуды. Но причуда Йолин была уж очень… причудливой. - Ну-у, - протянул он, - тут неподалеку, в одной долине, люди занимаются садоводством. Наверняка и яблоки выращивают. Всего с полчаса лету, если не торопясь. Три-четыре дерева съешь, наверное, и хватит. - Дерева?! – чешуя Йолин встопорщилась, предвещая нешуточный гнев. – С листьями, ветками, стволами?! Но я не хочу яблонь! Я хочу ЯБЛОК!!! Просто одних яблок! - Так съешь одни яблоки, - Корби шевельнул кончиками сложенных крыльев – эквивалент человеческого пожатия плечами. – В чем проблема? - В том, что они маленькие! – в голосе Йолин явственно слышалась исте-рическая нотка. – А я большая! Я не могу собрать их, чтобы съесть! Беременная драконесса в истерике – зрелище не для слабонервных, а лю-бой дракон в обществе драконессы – всегда крайне слабонервное существо. - Тогда извини, ничем не могу помочь, - сказал Корби и поспешил убрать-ся подальше, пока не поздно. Оставшись в одиночестве, Йолин разрыдалась. Там, где падали ее слезы, гранит тихо шипел и плавился. Вскоре карниз перед ней напоминал лунный пейзаж – бесчисленные кратеры… Полюбовавшись результатом, Йолин ус-покоилась настолько, что смогла думать не только о том, как она несчастна. - Они маленькие, - сказала она вслух. – А я большая. Но ведь драконы, в конце концов, волшебный народ. Почему бы мне не сделать яблоки такими большими, чтобы я могла собирать их? Драконы, особенно молодые, не склонны к долгим раздумьям. Йолин не была исключением. Снявшись с карниза, она полетела к долине, образ кото-рой передал ей при разговоре Корби. Надо сказать, почтенные, что драконы воспринимают мир совсем не так, как люди. Человеку пришлось бы объяснять, что надо пройти столько-то миль по караванной тропе на север, потом вот у такого-то утеса повернуть налево, да еще не забыть свернуть у корявого дерева вслед за маленькой реч-кой… Драконам проще. Мир они воспринимают как узор, сплетенный пото-ками магических Сил, образующих его. И чтобы указать направление, дракон просто мысленно передает другому дракону кусочек узора, соответствующий месту, куда надо попасть. Ошибиться невозможно – любой элемент узора не-повторим. Устроившись на скале над входом речки в долину, Йолин по-хозяйски ос-мотрела селение внизу. Садов было много, это верно, а вот людей не было видно совсем. Только несколько мальчишек с визгом кинулись прятаться по подвалам. Йолин не удостоила их вниманием. Она поднялась повыше в воз-дух – посмотреть, куда девались люди. В соседней долине она увидела шум-ное празднество – там справляли свадьбу. Очевидно, все взрослое население отправилось туда. Драконессу это вполне устраивало. Она села возле самого большого сада и начала собирать слабенькие потоки Сил для плетения своего волшебного узора. И почему это люди всегда селят-ся там, где потоки слабее всего? Не иначе, для того, чтобы осложнить жизнь драконам… Раньше Йолин не приходилось работать с живым, растущим деревом, да и сама она была еще совсем молода и неопытна – это была ее первая беремен-ность. Поэтому драконесса несколько раз, узелок за узелком, проверила весь сплетенный узор, боясь допустить хоть одну маленькую ошибку. Ошибок вроде бы не было, волшебный узор был правилен, сиял и дышал, что также было хорошим знаком. Йолин вздохнула, наложила плетение на сад и отпус-тила его. Узор вспыхнул и погас – волшебство состоялось. Ничего не изменилось. Йолин подождала. Яблоки не стали крупнее даже на маковое зернышко. Йо-лин раздраженно взревела, замахала крыльями и поднялась, разбрызгивая пот – она так старалась, что даже вспотела от напряжения, но все равно ничего не получилось! Она уже готова была обрушиться на ни в чем не повинный сад, но тут ее внимание привлекла толпа, бежавшая к селению. Ее заметили, ко-гда она поднималась на разведку. Зло сорвать не удалось. Конечно, население и трех таких деревень не мог-ло быть серьезной угрозой для дракона, но крылатый народ давно жил рядом с людьми, и Йолин очень хорошо знала, что можно себе позволить, а чего лучше не позволять, даже если ты беременна и в гневе. Украденную овцу или сломанную яблоню ей бы простили – с кем не бывает, и сами тем же грешат. Но разоренная деревня – это уже серьезно. После подобной выходки здесь появятся монахи из этой проклятущей Школы Противостояния, и тогда ей придется несладко. Хотя бы потому, что она ждет ребенка и не может – не имеет права – применять боевые плетения, способные убить не только врага, но и дитя в ее чреве. А монахи стесняться, конечно же, не будут… Селяне нашли свою деревню целой и невредимой. Оставленные сторожами мальчишки отделались испугом, не пропало ни овцы, ни свиньи, ни одна са-мая ветхая сараюшка не пострадала. Посудачив, что могло понадобиться здесь дракону, если все цело, толпа рассосалась. Но возле своего сада садов-ник Хабир нашел следы страшных когтей и янтарные капли застывшего дра-коньего пота. Разумеется, что это за вещество, не понял никто. Похожие на янтарь ку-сочки неведомого камня были теплы на ощупь и слегка светились в темноте. Когда Хабир отвез несколько кусочков в город, в Школу Противостояния, и получил за них бешеные деньги, деревня прониклась к нему тихой ненави-стью. Нет, в самом деле, почтенные, как было не возмущаться подобной неспра-ведливостью судьбы? Мало того, что Хабир был самым именитым садоводом в округе, разводил самые дорогие и редкие сорта яблонь и никогда не делил-ся черенками даже за деньги, мало того, что он был богат до неприличия и до неприличия же прижимист, так еще и драконьи камни ему привалили! Стер-петь это было невозможно, и мальчишки окрестных селений собрались в на-бег на его сад. Конечно, все мальчишки лазят по садам. Но поскольку почти у каждого дома росли свои плодовые деревья, то по садам детвора лазила не ради фрук-тов, которых и дома было навалом, а скорее ради того, чтобы показать свою доблесть. Садоводы это прекрасно знали – сами такими были, - и потому го-няли не строго. Все – кроме старого Хабира, не упускавшего случая отодрать хворостиной пойманного воришку… На сей раз мальчишки собрались в по-ход не ради славы, а ради мести, и намеревались как можно больше навре-дить везучему Хабиру. Нет, почтенные, конечно же, они не стали бы ломать яблони – для детей, у которых в предках десятки поколений садоводов, это равносильно убийству. Но вот обтрясти эти яблони, чтобы оставить без уро-жая вредного старика – совсем другое дело… Но так случилось, что эта орда попалась на глаза Йолин, которая сидела неподалеку в скалах, не в состоянии утолить свой голод и не в силах уда-литься от вожделенного сада. Увидев, как шустрые маленькие тени одна за другой исчезают за оградой, драконесса мгновенно составила план. Яблоки увеличить ей не удалось, но что могло помешать ей уменьшить се-бя? И не просто уменьшить, а принять облик человеческого детеныша? В та-ком виде она сможет вволю наесться яблок, а если ее поймают, то ничего не сделают – люди не убивают своих детей из-за нескольких плодов. Йолин быстро сплела узор и набросила его на себя, глотая слюнки в пред-вкушении пиршества. Через несколько минут девочка с туго заплетенной, чтобы не цепляться волосами за ветки, золотой косой скрылась среди деревь-ев… Йолин подняла руки в сплетение листьев и веток, нашарила гладкий яб-лочный бок, сорвала тяжелый, почти поспевший плод и, вдохнув его аромат, вонзила в него свои зубы, едва не застонав от обжигающего, острого наслаж-дения, когда кисловато-сладкий сок, душистый и безумно вкусный, брызнул ей в рот. - Эй, - окликнули ее из темноты, - идем дальше! Старый хрыч самые луч-шие в середине сада посадил! Самые лучшие?! Лучше, чем ЭТО?! Йолин ринулась туда, где уже шеле-стели, осыпаясь, яблони… В самом разгаре пиршества, когда мальчишки обтрясали последние дере-вья ценных сортов, а Йолин сбилась со счета съеденных яблок, послышались торопливые шаркающие шаги и хриплый крик: - Путь чума поразит вас, истребители моих трудов! Вы загубили весь мой сад! Мальчишки брызнули в разные стороны. Йолин замешкалась, уверенная в своей безопасности, и цепкая рука с узловатыми грубыми пальцами ухватила ее повыше локтя. - Попался, отродье шакала! А ну, идем-ка на свет. Я хочу посмотреть в твои бесстыжие глаза, прежде чем спущу с тебя три шкуры! Едва поспевая за разъяренным садовником, опешившая Йолин дожевывала очередное потрясающе вкусное яблоко. И только когда Хабир выволок ее за ограду сада и замахнулся на нее хворостиной, она поняла, что сейчас ее – ЕЕ! – высекут, как обыкновенного человеческого детеныша. У беременных женщин бывают приступы ярости, способные устрашить и храбрейшего из мужчин. Что же тогда, почтенные, можно сказать о ярости беременной драконессы? Йолин сбросила плетение и вернулась в свой облик. От ее гневного рыка осыпались последние яблоки в саду Хабира и упали в обморок все деревен-ские собаки. Она рычала, а садовник Хабир валялся между ее передними ла-пами, моля о пощаде и едва ли сознавая, что дракон вовсе не обязательно должен понимать человеческую речь. Огненное дыхание выжгло траву в шаге от скорчившегося садовника. Он взвизгнул и замолк, ожидая, что вот, сию секунду, драконье пламя опалит и его. Но время шло, смерть все не приходила, и Хабир решился поднять голо-ву. Золотой дракон задумчиво смотрел на него, явно пребывая в затруднении. Хабир попытался отползти назад, но огромный коготь вернул его на прежнее место, и садовник снова скорчился в смертельном страхе. - Я могла бы убить тебя, человек, - сказала наконец Йолин, - за то, что ты посмел поднять на меня руку. Но я оставлю тебе жизнь – в обмен на твои прекрасные яблоки. Мешок яблок, которые все равно сгниют, за твою старую шкуру – не такая уж высокая цена, верно? Принесешь их вон к той скале. И каждый год будешь приносить по мешку. - О госпожа! – взвыл садовник. – Пощади, и я сделаю все, что ты скажешь! Кивнув, Йолин взмахнула крыльями и скоро исчезла в ночном небе… Скрыть свой конфуз садовнику не удалось. Рев и слова дракона слышала вся деревня. Правда, Хабиру удалось перетолковать происшествие в свою пользу: мол, его яблоки оценили по достоинству даже драконы, и один из них явился грабить его сад. Но он, старый немощный человек, осмелился противостоять дракону! И хотя он потерял урожай, зато сохранил деревья. А мешок яблок в год – не такая уж обременительная дань. Деревня, знавшая, какие «драконы» оставили без урожая Хабира, потеша-лась, хотя не спорила – дракон действительно был, его слышали все. Но вряд ли дракон обтрясал яблони – ведь ни одна из них не была сломана. Деревня потешалась, когда Хабир навалил на телегу не один мешок яблок, а три – все равно пропадут, - и повез их к указанной скале. Деревня потешалась всю осень, пока Хабир варил варенье из опавших яблок и ставил из них вино. Де-ревня потешалась всю зиму и весну. Когда яблоки начали наливаться, деревня потешаться перестала… Йолин и впрямь была очень молодой и неопытной драконессой. Она пра-вильно сделала плетение, но совсем забыла, что результат проявится только при следующем плодоношении. К тому же помогли мальчишки: раньше вре-мени освободившись от плодов, яблони отдохнули и дали небывалый уро-жай. Яблоки наливались и росли. Они переросли свои обычные размеры уже втрое, но и не думали останавливаться. Хабир метался между яблонями, чьи ветви грозили обломиться под тяжестью невиданных плодов, расставлял бес-численные подпорки и не знал, проклинать ему золотую драконессу или бла-гословлять. Он был так занят, что и не заметил, как стихли насмешки, сме-нившись испуганно-завистливым шепотком. Яблоки доросли почти до величины хорошей дыни и наконец прекратили свой пугающий рост. Они начали стремительно зреть, и по мере поспевания их кожица приобретала все более отчетливый оттенок старого золота, а мя-коть, по словам мальчишек, обрела совершенно непередаваемый вкус, равно-го которому просто не могло быть. Хабир плакал от счастья. Окрестные садоводы посмотрели на яблоки, почесали в затылках и разо-шлись. А осенью Йолин вместо яблок, которых ей вновь хотелось до рези в желудке, обнаружила у скалы целую гору всевозможных фруктов и ягод. Из-рядно потрудившись, на самом дне этой благоухающей и сочащейся кучи она нашла вожделенные яблоки, съела их и задумалась. Вечером Хабир, по обыкновению гонявший мальчишек, вышел из сада и споткнулся, как ему показалось, о корень. Но у входа в его сад никогда не было никаких корней! Тем более таких проворно ускользающих из-под ног… Когда странный корень с тихим шелестом исчез в кустах полыни, а огром-ная тень нависла над садовником, заслоняя звезды, Хабир с ужасом понял, что пожаловала прошлогодняя гостья, а корень – ее хвост. - Смилуйся, госпожа! – завопил он, падая на колени. – Я же привез тебе яблоки! - Знаю! – рявкнула Йолин. – Перестань кричать и отвечай: зачем ты привез мне все остальное? Я просила только яблоки. - О чем ты говоришь, госпожа? – севшим голосом просипел садовник, во-ображение которого рисовало картины одна страшнее другой. - Я говорю о других фруктах. У скалы была целая куча других фруктов. Я едва откопала в ней яблоки. Они стали еще вкуснее, и я довольна. Но я не поняла, для чего ты привез все остальное. - Я больше ничего не привозил, госпожа… - садовник осекся, его вдруг осенило. – Это мои соседи, госпожа! – затараторил он. – Это другие садовники! Они видели, что ты сделала с моим садом, и привезли тебе свои дары, чтобы ты и для них сделала то же самое! Они надеются, что у них будут такие же чудес-ные плоды! - А разве я что-то сделала с твоим садом? – спросила донельзя озадаченная драконесса. - Но, госпожа, ведь это после твоего прилета мой сад словно сам Творец благословил! Мои яблоки выросли крупнее дынь! Так просто не бывает! - А-а, вот ты о чем… - Йолин наконец вспомнила свое, как ей подумалось, неудачное волшебство. – Действительно, на этот раз твои яблоки были очень крупны. Хотя я уже не надеялась на успех. Ну что же, поглядим… И она улетела, оставив Хабира в полной растерянности. Всю ночь Йолин рылась во фруктовой груде, пробуя то и это, не зная, на чем остановиться и что теперь делать с этими двуногими бескрылыми нагле-цами. Подумать только, они ее подкупить пробуют! Они пытаются ее нанять! Сумасшедший дом! Впору жаловаться на людей в Школу Противостояния… Йолин хихикнула, представив себе такую картину: дракон жалуется монахам Школы Противостояния на попытку подкупа со стороны людей! Безумие! Идти на поводу у них – тоже безумие. Но, с другой стороны, результат пре-взошел все ее ожидания – яблоки стали и большими, и необыкновенно вкус-ными… За этими раздумьями ее и застал Корби. - Что это ты тут делаешь? – спросил он, озадаченно разглядывая перема-занную по шейный гребень подругу. - Пробую, - сообщила Йолин, выковыривая кончиком когтя застрявшую между зубами персиковую косточку. - А откуда все это взялось? - Люди привезли. - Лишнее, что ли? - Да нет, вообще-то. Я в прошлом году попыталась сделать яблоки покруп-нее, чтобы удобнее было их собирать. А они только в этом году большими стали. Другие садовники захотели, чтобы и их так же облагодетельствовали. Вот – надарили… А я не знаю, что выбрать. - Ну-у, - протянул Корби, - тогда выбери все. - То есть? - Ну, в прошлый раз тебе яблок захотелось, и в этот тоже. А в следующий может на груши потянуть. А кого-нибудь еще – на виноград. Кто вас, бере-менных, разберет с вашими причудами… Так если людям помочь, они потом готовенькое привезут, только намекни. И им выгода, и вам польза. - Разумно, - сказала Йолин. – Только я одна не справлюсь. Поможешь? Корби подцепил кончиком хвоста крупную виноградную кисть и закинул ее в пасть, пожевал и блаженно зажмурился. - Пожалуй, польза не только вам, - сказал он наконец. – Мне вот, оказыва-ется, всю жизнь хотелось винограда. С кого начнем? Вот с тех пор, почтенные, в той долине и растут сказочно вкусные драко-ньи яблоки. А кроме них, драконьи сливы, персики, виноград и еще много чего. Люди в той долине не боятся драконьих налетов, принцесс больше не воруют, а стая драконов, что живет в тех местах, известна тем, что в ней са-мые сильные и красивые драконы. И немудрено, почтенные, ведь беремен-ные драконессы теперь получают самые лучшие плоды Садовой долины. Школа Противостояния хмурится, но придраться ни к чему не может. А са-довники, гоняя мальчишек и девчонок, побаиваются драть хворостиной со-рванцов: а ну как среди них затесалась очередная беременная драконесса! -------------------- Моя точка зрения - прицел.
Просто язва. Ничего личного. Мы еще повоюем. 181 Inc Есть три вещи, которые многие люди не умеют делать с достоинством - проигрывать, стареть и умирать. (с) |
|
|
|
 13 Сентябрь 2007, 00:24 13 Сентябрь 2007, 00:24
Сообщение
#5
|
|
|
Шехерезада 181 ИЛЭ Группа: Бывалый Сообщений: 1344 Регистрация: 10 Июнь 2007 Из: Кокпит Пользователь №: 6752 Раса: Мандалорианка |
ЭЛЬФИЙСКИЙ БЕРИЛЛ
День снова выдался неудачный. С раннего утра Кингар рылся в отвалах заброшенной самоцветной шахты, просеивая рыхлый грунт, осторожно дробя куски породы и перебирая горсти мелкого щебня в поисках пропущенных старателями мелких драгоценных камней, только дважды оторвавшись от работы, чтобы перекусить и напиться. Ну, и так, по разным надобностям… Но в его мешочке по-прежнему сиротливо перекатывались несколько светлых гранатов, столь мелких, что огранка их будет сущим наказанием, четыре кристалла дымчатого горного хрусталя, да пара трещиноватых топазов. Если и дальше промысел будет столь же урожаен, зиму ему не протянуть. Конечно, в рабочей шахте не дали бы умереть с голоду, платили работникам щедро – чтобы не прятали добытых самоцветов. Но когда Кингар был завален обвалившимся потолком шахты и чудом выжил после тяжкого увечья, ходить он мог только с трудом и недалеко. На шахте такие работники были не нужны. Волей-неволей пришлось ему освоить ремесло гранильщика, и очень удачно – как оказалось, у Кингара был незаурядный талант. Из бросового камня он мог сделать вещь, от которой нельзя было оторвать глаз. Но в последнее время ему не везло – даже и бросовый камень обходил стороной его загрубевшие ладони. Уже без всякой надежды увечный горняк спустился в шахту. Далеко он отходить не стал – не надеялся на свои ноги. Подняв повыше лампу, он осмотрелся. У входа шахта была невысока – сам Кингар не был высок, но и он почти упирался макушкой в потолок. Дальше штольня становилась шире и выше, но туда он не пошел. Шахта стара и заброшена, случись обвал – он не успеет выбраться на поверхность. Конечно, пытаться что-то искать так близко от входа было полнейшим безумием, но… Кингар мысленно вознес молитву Тигайне – всем ведь известно, что именно Самоцветная Змея может сделать богачом самого оборванного бедняка, во время линьки потершись о камни в его забое и щедро разбросав тут и там свои драгоценные чешуйки… Правда, беспокоить всемогущую и, в общем, достаточно отзывчивую богиню следовало как можно реже. А лучше вообще не беспокоить – разве что при жизненной необходимости… Он внимательнее присмотрелся к стенам шахты. Обычный дикий камень… но вот здесь местами проблескивают кристаллики полевого шпата. Совсем крохотные кристаллики. Интересно, обратили ли на них внимание, когда закладывали этот рудник? И что там, глубже? Снова дикий камень, или начинается жила шпата? Если камень, то можно долбить его до конца жизни и не выдолбить ничего, кроме мозолей на руках. Но если жила… Кингар выбрался на поверхность и заковылял к своему лагерю, разбитому уже месяц назад между скалой и большим гранитным валуном. Из валунов поменьше он соорудил две стены, надежно ограждавших его убежище от дикого зверя, буде таковые найдутся поблизости. Проход в лагерь на ночь закрывался развесистым колючим кустом. Там Кингар хранил свой инструмент. Собрав необходимое, он снова спустился в каменный зев. На вбитый крюк подвесил лампу, примерился и осторожно тюкнул кайлом в мелкие искры на стене… После нескольких ударов дикий камень кончился. В горку щебня под его ногами сыпался уже чистый полевой шпат. И вскоре среди этих осколков сверкнул чистый золотой огонек… Кингар выронил инструмент. Почти не дыша, он поднял обломок шпата. На сколе поблескивал золотисто-желтый пенек с фалангу его пальца. Увечный горняк не верил своим глазам: он нашел берилловую жилу! И не просто берилловую – ему достался редчайший золотистый берилл, того самого оттенка, который ювелиры зовут «осенним»! Он вытер взмокший лоб пыльной ладонью, оставив на нем грязные разводы. Одного этого камня хватит, чтобы безбедно прожить много лет. А он ведь наверняка не один. Милостивая Тигайна! Взяв кайло поменьше, чтобы случайно не повредить самоцвет, Кингар принялся за работу… Почти две недели Кингар разрабатывал жилу. Она оказалась невелика, скорее не жила, а шпатовый занорыш, но в полевом шпате, как изюмины в булке, густо сидели золотистые бериллы, один другого краше. Теперь в мешочке Кингара сверкали несколько десятков прозрачных камней величиной с фалангу пальца, а два были с палец самого горняка. Но один из них был безнадежно испорчен – скол пришелся как раз на его грани, но даже и без него можно было больше никогда не ходить к отвалам. Сидя под валуном, Кингар перебирал свою добычу, сортируя камни. Вот эти, самые мелкие, с фасолину, пойдут на серьги, перстни. Эти, с фалангу, на фибулы плащей, на диадемы и броши. Этот, самый большой, еще неизвестно куда. А вот этот, сколотый, не пойдет уже никуда. При обработке он рассыплется окончательно. Целиком его никуда не вставишь, кто же согласится носить разбитый самоцвет? Только выкинуть и остается, попросив прощения у Тигайны за то, что не уберег ее дара… И все-таки Кингар медлил, вертя в руках искалеченный камень, пронизанный паутиной внутренних трещин… Не денег потерянных было ему жаль – жаль было бесполезно загубленной красоты… - Что ты хочешь сделать с ним, добрый человек? – послышался сверху мелодичный голос. Вздрогнув, Кингар поднял голову и рассыпал камни. На вершине валуна сидел эльф. Ловко спрыгнув на землю, Перворожденный показал калеке пустые ладони и дружелюбно улыбнулся: - Я не причиню тебе зла, добрый человек. Если позволишь разделить с тобой отдых, я найду, чем угостить тебя, а потом пойду дальше своей дорогой. - Большая честь для меня, - опомнился Кингар, торопливо собирая драгоценную добычу. Впрочем, эльф, похоже, не собирался на нее посягать… Торопливо спрятав свое сокровище в мешочек, калека нагнулся за испорченным бериллом, все еще не в силах расстаться с ним. - Ты позволишь мне взглянуть? – спросил эльф. Вздрогнув, Кингар протянул ему камень. Перворожденный взял его бережно, словно птенца, покачал на ладони. - Боюсь, он для тебя потерян, - покачал он головой. – Нет-нет, я не собираюсь отбирать его у тебя. Если ты сможешь спасти этот берилл, забирай назад. Но мне кажется, человеческим рукам с этой задачей не справиться… - Мне тоже так кажется, – вынужден был признать Кингар. – Я лучший гранильщик по эту сторону Туманного Хребта, но мне его уже не огранить. Жаль, это был прекрасный камень. Лучший из всех, виденных мною. - Я мог бы попытаться, - задумчиво сказал эльф. – Возьмешь за него золотую монету? Несколько мгновений честность и жадность боролись в душе калеки. Честность победила. - Я все равно выкинул бы его, господин, - хмуро сказал он. – Возьми его и сделай, что сможешь. Жаль, мне не увидеть, каким он станет в твоих руках… А мне на безбедную старость хватит и того, что я нашел сегодня. Тигайна была милостива ко мне. Кивнув, эльф осторожно спрятал загубленный берилл в мешочек, расшитый искусной вышивкой, который носил на шее – как показалось было Кингару, на золотой цепи. Только уж очень гибкой и какой-то живой казалась эта цепь… - Твой народ воистину искусен, - сказал он, указав на мешочек. – Я еще ни разу не видел, чтобы золото так горело на солнце. Глаза эльфа засияли. - Благодарю на добром слове, мастер. Но это не золото, - сказал он, ласково проведя пальцем по цепи. – Этот шнурок сплела мне из своих волос моя невеста. Может, тебя утешит, что и я был обманут, пока не взял его в руки… Она носит сделанный мною кулон на шнурке из моих волос. Так мы обручаемся на некоторый срок перед свадьбой. Еда, предложенная эльфом, была проста, но необыкновенно вкусна и придавала сил. Кингар попытался было расспросить своего гостя о том, как это все готовилось, но эльф пожал плечами. - Я не могу научить тебя этому, мастер, - печально сказал он. – Все, что мы делаем, мы делаем, прислушиваясь к душе того, с чем работаем. Все имеет свою душу. Только вот люди не слышат этой души… как правило. Уже собравшись уходить, эльф спросил калеку об его имени. - Кингаром меня зовут, господин. А зачем тебе мое имя? - Ты пожалел, что не увидишь, каким станет раненый камень. Теперь я знаю твое имя и смогу найти тебя, чтобы показать его. Если бы ты просто бросил берилл, я не подошел бы к тебе. Но тебе было жаль камень… наверное, ты не так глух к миру, как твои соплеменники. Я вернусь. Удачи тебе, мастер. Бесшумной поступью эльф ушел за поворот тропы. Кингар посидел немного, посмотрел на небо. Солнце клонилось к закату. Сегодня уже поздно трогаться в путь, но до темноты еще можно было успеть собрать свое небогатое имущество во вьючные мешки, чтобы с рассветом вернуться домой… Тигайна воистину была милостива к нему. За два маленьких кристалла он купил серебряный самородок с телячью головку. К осени Кингар вывез в город столько перстней и кулонов из мелких бериллов, оправленных в серебряное кружево, что выручки за них достало бы и его детям, если бы они у него были. Можно было даже не продавать более камни – но он все-таки продал их, оставив только два. Тот, что был близнецом потрескавшегося берилла, и один из тех, что помельче. Меньший берилл Кингар любовно огранил и отвез туда, где нашел занорыш с драгоценным нутром. Он оставил его в шахте, в нескольких шагах от входа – дальше идти не рискнул, не надеясь на свои слабые ноги. Поклонился, поблагодарил благодетельницу Тигайну и вернулся домой. Вообще-то Самоцветная Змея никогда не требовала ответного дара, но любой горняк знал: если бедность вынуждала человека полностью продать подаренную ею добычу, с нищетой он расставался навсегда. Но если оказывался излишек и все равно пускался на прибыль ради прибыли, а не на доброе дело, нежданное богатство могло развеяться прахом так же стремительно, как пришло. Потому при нежданной удаче горные мастера старались либо отдарить саму Тигайну, либо помочь кому-то, кто был в нужде. Бедняков особых в деревне Кингара не было, и камень он решил вернуть хозяйке – пусть отдаст его тому, кому он нужнее. Со вторым камнем ничего не выходило. Его Кингар решил оставить себе – то ли на черный день, то ли в память о встрече с эльфом и его уроке – слушать душу всего, чего коснулся. Мастер и сам не смог бы объяснить, зачем ему этот камень. Сердцем чуял – так надо. Долгими осенними вечерами он часто брал берилл в руки, но не приступал к огранке. Он хотел, чтобы камень сам рассказал ему, каким он желает стать. Но дивный самоцвет молчал. Кингар откладывал его в сторону, чтобы спустя время снова взять, грел в ладони, всматривался в совершенную гармонию граней. Камень молчал… Кингар стал известен, теперь ему уже не приходилось рыться в отвалах в поисках камешка, которым пренебрегли сотню лет назад. Лучшие самоцветы богатые люди везли к нему, чтобы потом гордо выставлять напоказ работу Кингара. Он не отказывал никому, потому что просто сидеть на мешке денег казалось ему кощунством. Он никогда не назначал цену своей работе, брал столько, сколько дадут – теперь он мог себе это позволить. Впрочем, давали все равно много: знать словно соперничала не только в красоте, но и в стоимости работы. Кингар неожиданно обнаружил, что стал желанным женихом – теперь его увечье никого не волновало. Впрочем, томные взгляды, адресованные не столько ему, сколько его богатству, не волновали его, к великому огорчению деревенских красавиц. Избегая их внимания, он снова стал уходить в горы. Как знать, не надеялся ли он встретить там того, кто научит его слушать душу не только камня, но и человека?.. В одно из таких странствий, бросив кобылу пастись на травянистом склоне, Кингар спустился к ручью в распадке. Говорливые струйки играли в прятки среди камней, и он присел на плоский камень, машинально перебирая мокрый галечник. В ладони мягко затеплился агат, потом еще один. Гранильщик залюбовался тончайшим рисунком полосок, снова склонился над ручьем. Вскоре рядом с ним выросла горка агатовых галек, вполне достаточная, чтобы сделать из них убор впору и королеве. Увлеченный своим занятием, он не услышал тихого шелеста шагов. - Зачем тебе эти камни? – спросил тихий женский голос. – Это ведь простая галька. Может, ты волшебник и можешь превратить их в сыр? Он обернулся и увидел бедно одетую девушку, с искренним интересом изучавшую его добычу. - Ты пастушка? – спросил он вместо ответа. - Откуда ты знаешь? – удивилась она. - А я правда волшебник, - рассмеялся он. Ему вдруг стало удивительно светло и легко на сердце. Эта девушка была похожа на агатовую галечку – такая же чистая, свежая, с таким же нежным рисунком… души. – Не бойся, я добрый волшебник. Хотя если честно, то вон там я вижу твою отару, а твои руки пахнут овечьим сыром. Камни я в сыр превратить не могу, но если через месяц ты придешь сюда, я покажу тебе, что это не простая галька. Доверчиво улыбнувшись, девушка присела рядом и взяла в ладошку несколько камней. - А они красивые, оказывается, - сказала она удивленно. – Я каждый день пою здесь овец, но никогда мне не приходило в голову, что простой камень может быть красивым. Ты правда волшебник. - Приходи через месяц, - сказал Кингар, с трудом поднимаясь на ноги. – Обещаю, тебе понравится то, что ты увидишь. - Ой, - сказала она. – А что с тобой такое? Собирая свою добычу, он опасливо покосился на пастушку, боясь увидеть в ее глазах уже привычную брезгливую жалость. Но девушка смотрела на него с искренним сочувствием. - Я попал под обвал, – нехотя отозвался Кингар. – С тех пор я почти не могу ходить. - Тогда обязательно приходи через месяц, - решительно тряхнула она волосами. – Я успею приготовить лекарство. Хуже тебе не станет, а вот лучше стать может. Мы, овечьи пастухи, многое знаем о душе трав. Свистом подозвав лошадь, мастер взобрался в седло, помахал девушке рукой и поехал домой. Ему уже не терпелось приступить к работе. Он так давно не делал ничего просто так, для души! Этой милой пастушке с ясными глазами и задорно вздернутым носиком так пойдет агатовое ожерелье!.. Месяц Кингар корпел над своим подарком, распиливая, обтачивая, полируя агаты. Он не стал оправлять камни в благородное серебро – в металле они потерялись бы, погасли. Он осторожно просверлил сделанные бусины и нанизал их на крепкий шнурок, сплетенный из прочной льняной нити и собственных волос. Бусины разделялись сложными и красивыми узлами, а замок ожерелья он украсил моховым агатом, рисунок которого напоминал тонкое деревце, еле видимое в тумане. Ожерелье получилось прекрасным – настолько, что одна из знатных дам, некстати прибывшая заказать себе «что-нибудь работы Кингара», долго уговаривала мастера продать ей эту вещь. Все заверения мастера, что ожерелье сделано на заказ и не продается, действовали на нее, как красная тряпка на быка: она только надбавляла цену. В конце концов Кингар не выдержал. - Миледи, - сказал он, - я могу продать украшение, но не могу продать свою репутацию. У всего мира не хватит денег, чтобы ее купить. Я никогда не продаю вещь, сделанную для одного человека, другому заказчику. Я никогда не повторяю своих работ. Это ожерелье сделано не для вас. Оно не сделает вас красивее, чем вы есть. Я могу только обещать, что украшение, которое я сделаю для вас и только для вас, будет неповторимым и подойдет вам гораздо больше, чем то, что сделано для другой женщины. После этого дама успокоилась и больше не настаивала. Сделав заказ, она удалилась в сопровождении своей свиты. А Кингар продолжил отделку ожерелья. Месяц спустя он сидел на берегу ручья, сжимая в неожиданно вспотевших ладонях завернутый в платок из дымчато-серебристого шелка подарок, и благодарил Тигайну за возможность сделать кому-то дар пусть и менее щедрый, чем тот, что сделала она сама ему, но от того не менее ценный. Ждать ему пришлось недолго. Вскоре послышалось блеяние овец, собачий лай, а потом появилась пастушка в сопровождении большого лохматого пса. Пес деловито обнюхал гранильщика и счел его заслуживающим доверия, после чего отправился к овцам. А пастушка присела рядом с Кингаром. - Я обещал показать тебе, для чего мне понадобились простые камни из ручья, - мастер протянул ей шелковый сверток. – Это тебе. Девушка с любопытством развернула платок и ахнула. По серебристому шелку струилась нить отполированных агатов, любовно подобранных по рисунку и оттенку, похожая на струйку ручья, из которого не так давно вышла. - Я… я не могу это взять! – она беспомощно посмотрела на Кингара. – Это слишком красиво! Это должна носить какая-нибудь дама, а я всего лишь… - А ты всего лишь та единственная дама, которая может это носить, - перебил ее мастер. – Я делал это для тебя. Не обижай меня отказом. - Но чем я могу расплатиться за него? - Это подарок, - отрезал Кингар. – Будь ты самой королевой, и тогда я не взял бы никакой платы. Мне будет приятно просто знать, что ожерелье понравилось тебе и ты его носишь. Девушка смотрела на него широко раскрытыми глазами, боясь поверить. - Надень, - попросил он. – Мне хочется убедиться, что оно и впрямь тебя достойно. Пастушка робко застегнула на шее агатовое ожерелье и растерянно посмотрела на шелковый платок. - Это тоже тебе, - сказал Кингар. - Но… - девушка зарделась таким густым румянцем, что мастер почти испугался. - Что такое? – спросил он. - У нас в горах принято дарить платки, когда сватают невесту, - прошептала она, боясь поднять глаза. Несколько секунд Кингар молчал. Он представил себя в роли жениха. Горная серна – и рядом с ней калека… - Прости, – сказал он. – Я не знал. Но все равно – можешь оставить его себе. Просто так. Он тебе тоже очень подойдет. Или подари кому-нибудь… - Спасибо за подарок, добрый волшебник, - помолчав, сказала девушка. – Позволь теперь мне побыть волшебницей и помочь тебе. - Чем? – искренне удивился Кингар. - Я ведь обещала сделать лекарство. Домой Кингар вернулся только через две недели. Пастушка Джахен не смогла вылечить его слабые ноги, но смогла сделать их сильнее. Две недели она поила его отварами трав, растирала густой мазью из травяных настоев и черной горной смолы мышцы ног и спину, водила к горячему болоту, пахнущему тухлыми яйцами, и заставляла лежать там, погрузившись до пояса в липкую теплую грязь, пока сердце его не начинало биться, как пойманная горлинка. Через две недели, убедившись, что большего не достичь, она отпустила его, вручив напоследок горшочек с мазью и велев натираться ею каждую неделю после горячей ванны. Увечный мастер не стал здоровым, но теперь он мог без особого труда пройти несколько миль по горным тропам, мог сам вскопать клочок земли возле своего дома и посадить зелень и овощи. И теперь он мог значительно дольше просиживать за гранильным станком… Кингар вновь вернулся к своему бериллу, но вынужден был отступиться. Камень по-прежнему молчал… хотя порой мастеру казалось, что он сердцем слышит нечто, исходящее от этого самоцвета. Нечто, от чего ему хотелось плакать или выть на луну, задыхаясь от тоски и одиночества. Тогда он седлал свою кобылу и ехал в горы, к Агатовому Ручью, где пасла своих овец пастушка Джахен… Когда наступила новая осень, и тропы стали скользкими от дождей, он засел в своей мастерской. Заказов накопилось много, за осень и зиму надо было успеть выполнить их все. Он мог не брать заказов, но уж раз взялся, следовало поторапливаться. Зима выдалась снежной. С работой Кингар справился быстрее, чем ожидал – зимние ночи долги, а его словно кто-то подгонял, и порой он засиживался в мастерской далеко заполночь, шлифуя камни и сплетая в оправу серебряную нить. Уже к концу зимы он обнаружил, что заняться ему больше нечем – в шкафу, где хранились камни, серебро и эскизы, стало пусто, а большой кованый сундук был доверху забит лакированными коробочками темного дерева, в которых хранились готовые украшения. И тогда он снова достал из своего старательского мешочка прозрачный берилл… В очаге плясало синеватое пламя, свечи из янтарного воска горели ровно и ярко, старый каменный дом, завешанный толстыми коврами горской работы, свидетельствовал о достатке своего владельца, но не было в нем уюта и тепла. Не было того, что приносит с собой женщина, входя хозяйкой на порог жилища… Кингар особенно остро ощутил свое одиночество. И таким же одиночеством дышал камень. Теперь мастер слышал его: камень был пуст. Пуст, как жилище одинокого калеки, при всей своей сияющей роскоши. Камень умирал от одиночества… если уже не был мертв. До середины весны, когда просохнут дороги и явятся заказчики, оставалось еще почти три месяца. И Кингар взял берилл в мастерскую. Закрепив камень на гранильном станке, он долго всматривался в него. Можно было, конечно, просто огранить его, вставить в брошь или в перстень… или в ожерелье… продать какой-нибудь знатной даме… Но мертвый камень нельзя выпускать в мир. Он принесет с собой смерть. Эльф, наверное, мог бы заставить жить его, но как человеку, простому смертному, пусть даже и талантливому гранильщику, вернуть к жизни мертвые грани камня? Как? Мастер медленно протянул руку и коснулся берилла. Вот он, сверкающий, мертвый. Холодный, пустой. Бездушный… А каким он мог бы стать, если бы душа его была жива? Кингар закрыл глаза и попытался представить себе такой камень. Долго у него не было перед внутренним взором ничего, кроме пустоты. Потом медленно стало разгораться теплое свечение. Он увидел глазами своей души самоцвет необычной формы, похожий на сердце, только продолговатый, покрытый обилием мелких граней неправильной формы – но живой, изливающий пульсирующий свет, словно это каменное сердечко действительно билось и дышало. Этот камень был воистину прекрасен… Кингар открыл глаза и наткнулся взглядом на безжизненный блеск кристалла. Попытался прикинуть, как его гранить – и понял, что у него ничего не выйдет, пока это мертвое сияние будет слепить ему глаза. Но если не видеть, то как тогда работать? С закрытыми глазами? Смотреть на живой камень глазами души, а руками касаться мертвого? Немыслимо… но другого способа он не знал. И, сев за станок, решительно зажмурился… Кингар работал как одержимый – да он и был одержим своим камнем. Два месяца он вслепую, на ощупь, ни на миг не позволяя себе упустить образ живого берилла, гранил самоцвет. Но ни разу за долгих два месяца он не взглянул на свою работу. Он боялся увидеть все тот же мертвый блеск и потерять последнюю надежду. Он закрывал глаза, входя в мастерскую, и не открывал их, пока не затворял за собой дверь, выйдя из мастерской. И только отшлифовав последнюю грань, после долгого колебания решился наконец открыть глаза… Он увидел мягкий пульсирующий свет, льющийся сквозь неправильной формы грани, и у него перехватило дыхание. Он не верил своим глазам, но он сделал это! Он вернул камню погибшую душу! Он сделал эльфийский берилл! Рухнув на колени возле станка и сжимая в кулаке созданное сокровище, мастер вознес хвалу Тигайне за дарованное чудо… Проводив взглядом последнего заказчика, Кингар захлопнул опустевший сундук и отнес в каменный подвал последний мешочек с золотом. Потом поднялся в комнатку под самой крышей, где ночевал, и где хранился на подставке, обтянутой темным бархатом, оживший самоцвет. Камень лукаво подмигнул мастеру: мол, я-то живу, а ты что же? Так и будешь век один коротать? - Она ведь, наверное, давно уже замужем, - покачал головой мастер. – В горах, я слышал, рано выходят замуж. А она так красива… Берилл засветился ярче. Иногда Кингар подумывал, не сошел ли он тогда с ума от радости, но не мог отделаться от чувства, что камень его слышит. Понимает и даже отвечает – по-своему, конечно. Ощущение, исходившее от него сейчас, было сродни смеху. Словно самоцвет знал нечто, еще неизвестное самому Кингару, и заранее веселился. - А съезжу я, пожалуй, на Агатовый Ручей, - сказал он бериллу. – Только сначала наведаюсь в город… В городе он долго бродил по лавкам, выбирая самый красивый платок, потом сходил в школу писцов, попросил позвать мастера-летописца. К нему вышел сухонький старичок, спросил, зачем понадобился. - Не мог бы ты, почтенный, рассказать мне про обычаи горцев? – спросил Кингар. – Видишь ли, я хочу взять в жены горянку, но не знаю, как у них принято свататься и справлять свадьбу, обычаи-то у нас разные. Знаю только, что положено платок дарить. Платок я уже купил. А что еще нужно? Старичок поманил его за собой, провел в свою комнатку, загроможденную книгами и бумагами, усадил на спешно освобожденную от бумажных залежей скамью, сам уселся напротив на хромой трехногий табурет. - Платок дарить нужно, - сказал он, - но его могут и не принять. Тогда это полный отказ, и повторно лучше не свататься, могут прогнать с позором, а то и побить. Если примут платок, тогда надо просить родителей невесты или тех, кто ее воспитывал, чтобы разрешили жениться. Они начнут спрашивать, кто ты таков и какого рода, достаточно ли у тебя земли, скота и денег, чтобы прокормить семью, не был ли ты уже женат и если был, то почему теперь холост. У горцев нет разводов, и женятся они раз на всю жизнь, повторно в брак не вступают, если кто-то из супругов умер. Если даже человек с равнины сватается, и если он не холостяк или вдовец, а разведенный, свадьбы не будет. Если решат, что тут препятствий нет, могут разрешить. А могут и не разрешить. Если невеста согласна, а родители нет, то можно попытаться ее украсть. Будут гнаться, догонят – убьют обоих. Не догонят – сами на свадьбу приедут, благословят, и сердиться не будут, раз сумел свое отстоять. Но обычно если невеста не против, то и родители не отказывают. А если не согласна, понуждать не станут ни за что. Если разрешат жениться, надо их одарить, выкуп заплатить за то, что они ее с рождения кормили-одевали. А больше ничего не надо. Свадьбу за счет обоих семейств устраивают. - А какой выкуп нужен, почтенный? - спросил Кингар, почти устрашенный разнообразием возможных отказов. - А какой скажут. Могут денег взять, могут скота попросить сколько-нибудь. Это уж они сами решат. - Благодарю, почтенный, - Кингар поклонился старику. Попытался заплатить за полученные сведения, но золотая монета была с возмущением отвергнута. Пришлось пойти до писчей лавки, набрать лучших чернил, хорошей бумаги, и попросить отослать все это в школу писцов. Не заезжая домой, Кингар отправился в горы. Агатовый Ручей как раз окружали овцы. Пес Джахен узнал гостя, лениво гавкнул, поздоровавшись, и потрусил дальше, подгонять блеющих подопечных. Но самой пастушки нигде не было видно. Спешившись, мастер подозвал пса и спросил, где искать его хозяйку. Пес махнул хвостом, тявкнул в сторону нескольких валунов неподалеку, и умчался к разбредающимся овцам. Кингар пошел к камням. Пастушку он нашел за ними – она дремала на весеннем солнышке, прикрыв лицо платком из серебристого шелка. Агатовое ожерелье подрагивало на ее груди в такт дыханию. - Джахен, - тихонько позвал Кингар, вдосталь налюбовавшись спящей. Девушка пошевелилась, убрала платок с лица и села. - Здравствуй, Кингар, - улыбнулась она. – Как дела, добрый волшебник? Ты давно не приходил – наверное, снова творил волшебство? - Угадала, - серьезно сказал мастер. – Я был очень занят, прости. Я хотел спросить у тебя… можно? - Конечно! – улыбнулась пастушка. – Что ты хотел узнать? Кингар немного помолчал. - Когда я хотел подарить тебе платок, ты сказала, что по вашим обычаям его дарят, когда сватают невесту. Тогда я этого не знал. Теперь знаю. Джахен… если я подарю тебе платок, ты примешь его? Она молчала, глядя на него удивленными глазами, и он с тоской и страхом почувствовал, как его сердце гулко ударило где-то у самого горла, а потом стремительно рухнуло куда-то вниз. - Прости, Джахен, - тихо сказал он. – Я все понимаю. Ты красавица, а я… - он с отвращением показал на свои ноги. – Но я не мог не спросить. Всю эту долгую зиму я думал о тебе… я не переставал думать о тебе с тех пор, как ты подошла и спросила, не собираюсь ли я превратить камни в сыр… Прости. - Кингар, - так же тихо ответила Джахен. – Но ведь я уже приняла твой платок. И она показала ему лоскут серебристого шелка, в котором он когда-то привез ей агатовое ожерелье. - Я только удивлялась, что ты так долго не ехал к моим родителям, - добавила она минуту спустя, наблюдая, как беспросветное отчаяние постепенно сменяется на его лице недоверием к собственному слуху. – Я бы ни за что не взяла этого платка тогда, если бы не была согласна. И уж тем более не стала бы его носить. Меня и так уже почти два года пытают, кому я дала слово… - Почему? – вырвалось у Кингара. – Почему ты его приняла? Ты ведь совсем меня не знала. Ты видела, что я калека… - А еще я видела твои глаза. Они у тебя как у ребенка, добрый волшебник. Ты был калекой, но не озлобился на весь свет. Ты сделал мне ожерелье, из-за которого все мои подруги изошли желчью, и сделал его просто так. Просто сделал и все. Так солнце – просто светит и все. И ничего не ждет взамен. - Так Тигайна – просто подарила мне чудо, и все… - прошептал Кингар. – Джахен, я не знал ваших обычаев. Только вчера я спрашивал в городе у мастера-летописца, как мне посвататься к тебе. Почему ты мне сама не рассказала? Девушка зарделась. - Я… я думала, ты не очень богат и стараешься собрать выкуп. Я не хотела торопить тебя. Ведь делать такие вещи, - она дотронулась до своего ожерелья, - наверное, очень трудно и долго… У Кингара пересохло в горле. Таким же ласковым, любовным движением когда-то коснулся эльф шнурка из волос своей любимой… - Тогда выходит, я к тебе еще и по эльфийскому обычаю посватался, - вдруг улыбнулся мастер. – Шнурок в твоем ожерелье – из моих волос, Джахен. Эльфы так обручаются перед свадьбой. Ахнув, девушка схватилась за агатовую нить, рассматривая узлы между бусинами. Потом подняла сияющие глаза. - Придется мне тогда тоже прядь волос отстричь, - сказала она. – Я тоже кое-что для тебя сделала, только не могла придумать, на что подвесить… А откуда ты знаешь? Ну, про эльфов? И Кингар рассказал: как был искалечен в завале, как годами рылся в отвалах, обнаружив у себя талант гранильщика, как обеднел вконец, как взмолился о помощи, и как Тигайна послала ему шпатовую жилу с бериллами, как он выбирал эту жилу и испортил самый лучший из камней… - Бериллы – это дорогие камни? – спросила Джахен. - Самые дорогие после алмазов. Но алмазов у нас не водится, так что по нашим местам – самые дорогие. И самые красивые. А уж найти золотистый берилл – вообще великая удача. Так что я стал богат. Но прежде я встретил эльфа… И мастер продолжил рассказ: как спрыгнул к нему с валуна Перворожденный, как разделил с ним еду и научил слушать душу вещей. Как взял испорченный камень и обещал, если сможет спасти его, принести показать, что у него вышло. Как до самой осени он, Кингар, гранил бериллы и делал украшения из них. Как удачно продал свои изделия. Как стал известен. И как понял, что у самого крупного и красивого камня, оставленного для себя, умерла душа… - И что с ним стало? – тревожно спросила Джахен. - Увидишь, - загадочным голосом пообещал Кингар. – А теперь я хотел бы поговорить с твоими родителями… К вечеру они пригнали отару к пастушьему лагерю. Лохматый бурый пес подгонял овец, а Кингар вел под уздцы кобылу, на которой сидела Джахен – с платком из серебристого шелка на волосах. Им навстречу вышел пожилой горец. - Это отец, - сказала Джахен, проворно спрыгивая наземь. Мастер поклонился овчару: - Здравствуй, добрый человек, - сказал он. – Прими гостя. - Гость в доме – радость в доме, - отозвался горец. – Раздели с нами кров и пищу, человек с равнин, и не обессудь – здесь у нас походный лагерь, без особого уюта. - Благодарю, добрый человек, - снова поклонился Кингар. – К походной жизни мне не привыкать. Он заметил быстрый взгляд, которым обменялся отец Джахен с вышедшей следом женщиной, чье лицо еще хранило следы былой красоты, и понял, что его разгадали. Но раз не выгнали сразу взашей, возможно, и не придется рисковать жизнью Джахен и своей, убегая по горам от погони… Трапеза была простой и сытной: овечий сыр, вареная баранина, холодное молоко из глиняного кувшина… Подождав, пока насытятся все, Кингар встал, поблагодарил за угощение и подсел к отцу Джахен. - Два года назад встретил я твою дочь, добрый человек, и полюбил ее. За два года чувство мое не остыло, но стало сильнее. Прошу тебя, дозволь мне сделать ее хозяйкой в моем доме. - Два года долгий срок, - невозмутимо сказал горец. – Но жизнь – срок куда больший. Знаешь ли ты, человек с равнин, что мы не меняем мужей и жен? - Знаю, добрый человек. Не был я женат ранее, но пока живы были мои родители, я мог научиться тому, как следует супругам уживаться друг с другом в горе и в радости. Они не искали других супругов, не стану искать и я. - Это хорошо, человек с равнин, что твое дерево растет от доброго корня. Но прежде чем оставлять на зиму отару, следует рассчитать, довольно ли у тебя сена, чтобы прокормить ее до весны. Прежде чем жениться, следует рассчитать, сможешь ли ты содержать семью, не будет ли голодать твоя жена, не будут ли просить подаяния твои дети. - Я не ряжусь в шелка и ношу простое сукно, добрый человек. Но я богат, и богатство свое я составил трудом своих рук, не обманом или разбоем. Самоцветная Змея была добра ко мне. Если ты позволишь мне ввести Джахен в мой дом, ни ей, ни ее детям, ни ее внукам и правнукам не придется узнать, что такое нищета. - Ты сказал – Самоцветная Змея была добра к тебе? – насторожился горец. – Расскажи мне. - Я был горняком и добывал самоцветы под землей, пока не рухнул свод шахты и не придавил меня. Я выжил, но стал калекой и больше не мог работать в шахте. Тогда я стал гранильщиком. Тигайна послала мне богатую россыпь камней, и так я разбогател. Теперь каждый год я зарабатываю много золота, потому что знатные люди приходят ко мне, чтобы заказать украшения. С каждым годом я становлюсь богаче благодаря моим рукам и милости Тигайны. Твоя дочь не будет бедствовать в моем доме, добрый человек, если ты позволишь… - Я сам буду просить тебя жениться на ней, мастер Кингар, - сказал горец. – Для моего рода не может быть чести выше, чем породниться с человеком, чей камень носит в своей короне сама Тигайна. Кингар подумал, что ослышался. - Прости, добрый человек, - осторожно сказал он, - я не понял тебя: при чем тут корона Тигайны? - А ты не знаешь, мастер? – удивился горец. – Впрочем, откуда тебе знать… Один из наших детей заблудился в заброшенной шахте и взмолился Тигайне о помощи, когда понял, что не сможет выбраться сам. Ты, наверное, не знаешь и того, что к моему народу Тигайна всегда была особо милостива, ведь мы живем в горах. И особенно милостива она к нашим детям. Мы видим ее иногда и знаем, каков ее истинный облик. Она является нам как царственная дева в сияющих одеждах, с самоцветным венцом на голове. Тигайна пришла к ребенку и вывела его на поверхность. Путь ей освещал дивный камень в короне. Ребенок спросил, что это за камень, и Тигайна ответила, что это дар ей от мастера Кингара, чье увечье и бедность заставили ее сжалиться и ответить на его молитву. Она сказала также, что за подарок, сделанный с такой благодарностью и любовью, она никогда не оставит его своей милостью и будет хранить его род, когда ему самому придет время покинуть этот мир. Ты благословен Тигайной, мастер Кингар. Прими мою дочь и пусть она станет для тебя единственной спутницей на всю жизнь. - Благодарю тебя, добрый человек, - поклонился Кингар. – Скажи мне только, какой выкуп ты хочешь получить? Я не пожалею ничего. - Ты уже принес свой выкуп, мастер, - покачал головой горец. – Благословение Тигайны детям моей дочери – что ты можешь дать мне более ценного? Кингар снова поклонился – молча. Но про себя пообещал Тигайне, что позаботится о родителях жены. Так пастушка Джахен стала хозяйкой в доме Кингара, к великому расстройству тех, кто метил на ее место. В качестве свадебного подарка она поднесла мужу старательно сплетенный из мелких цветных бусинок оберег, подвешенный на шнурок из собственных волос. Кингар принял его, как святыню, и с тех пор не снимал. Через год на свет явился их первенец, потом дети пошли один за другим, и дом наполнился детским смехом и топотом резвых ножек, а в маленькой спаленке под крышей сиял трепетным живым светом самоцвет. Джахен относилась к нему как к живому существу, часто разговаривала с ним и даже советовалась. Для нее золотистый берилл был членом семьи - вроде чудаковатого, но мудрого дядюшки. Кингар смотрел на это с улыбкой, но и сам ловил себя на том, что прислушивается к молчаливым советам камня. Теперь он был счастлив. И только одно желание грызло его иногда изнутри: увидеть, что же сделал с треснувшим самоцветом эльф. Если ему, человеку, удалось сотворить такое чудо, хоть и с помощью Тигайны – в этом мастер никогда не сомневался, - то что же создал Перворожденный? Он ведь обещал показать… Поначалу Кингар ждал эльфа, но годы шли, а тот не приходил. Осень сменялась зимой, зима весной, дети росли, перенимали ремесло отца, женились, разлетались из-под крыши родного дома, как оперившиеся птенцы… Уже внуки смеялись и бегали по толстым коврам, а эльфа все не было. И Кингар перестал ждать. Мало ли, сказал он себе. Может, камень все-таки рассыпался при огранке на щепотку тонких прозрачных осколков, с которыми и эльфу не сделать уже ничего. Может, эльф просто забыл о нем – кто их знает, Перворожденных? Может, тоже женился и теперь нянчит внуков, и ему не до обещания, данного когда-то калеке-человеку… Годы шли. Век человека недолог, и Кингар уже чувствовал близость того времени, когда ему придется проститься с этим миром. Он все чаще проводил весь день в постели, глядя, как бьется живой огонь в берилловом сердечке, все реже выходил посидеть возле дома на солнышке. В мастерскую он не ходил уже давно – там теперь хозяйничал старший сын Кингара, унаследовавший талант отца. В один из тех редких дней, когда Кингар сидел на ступеньках крыльца, его окликнули. - Скажи мне, добрый человек, здесь ли живет мастер Кингар? Он поднял голову и увидел эльфа. И сам удивился собственному равнодушию - ожидание перегорело в нем, так долго шел Перворожденный к его порогу… - Здесь, только не живет, а доживает, - ответил он глухим старческим голосом. – Ты не узнал своего ученика, господин? - Прости меня, мастер, – тихо сказал эльф после минутного молчания. – Я забыл, как мало вы живете… Я принес тебе берилл. - Что ж, мне тоже есть что показать тебе, господин. Твой урок не пропал даром. Будь так добр, помоги мне подняться. С неожиданной почтительностью эльф протянул ему руку и, поддерживая под локоть, помог встать. Не отпуская старческой руки, Перворожденный повел его вверх по ступенькам. Деревенские кумушки проводили странную пару такими ошарашенными взглядами, что Кингар почуял их даже спиной, но только хмыкнул, представив, как долго этот визит будет пищей для пересудов и таких сплетен, что по сравнению с ними даже рыбацкие байки покажутся всего лишь робким преувеличением. Он провел гостя в свою комнатку под крышей, взмахом руки указал на кресло у камина, сам присел у стола, где под серебристым шелковым платком хранился самоцвет. - Покажи, господин, что тебе удалось сделать. Этот урок, наверное, уже не понадобится мне, но мой старший сын стал настоящим мастером – может, пригодится ему. Кивнув, эльф вынул из мешочка на груди камень и протянул Кингару. Старый мастер поднес к глазам ладонь. Некоторое время он молчал, любуясь – эльф обработал камень против всех правил искусства огранки, так разместив грани, что внутренние трещины стали зеркалами, отражающими свет. При самом слабом освещении камень сиял как звезда. - Твой народ воистину искусен, господин, - вздохнул Кингар. – Я не смог бы сделать подобного. Будь добр, покажи потом моему сыну твою работу и расскажи ему, как уберечь треснувший камень от рассыпания при огранке. - Обязательно, - кивнул эльф. – Но ты что-то хотел показать мне? - Да. Самый крупный камень я оставил себе. Взгляни, господин, все ли я сделал верно. И Кингар откинул платок. Через мгновение эльф стоял возле стола, боясь прикоснуться к сияющему самоцвету. - Возьми, господин, не бойся, - сказал Кингар. – Он живой, но добрый. Некоторое время в комнатке стояла мертвая тишина. Эльф держал на ладони берилловое сердечко и, казалось, даже не дышал. Потом посмотрел на старого мастера, и по глазам его Кингар понял, что Перворожденный потрясен до глубины души. - Этого не может быть, мастер, - выдохнул эльф. – Умоляю тебя, расскажи, как ты это сделал? Этого не может быть, но ты это сделал – как?! Ради всего святого в этом мире… - Что ты хочешь узнать, господин? - Этот камень был мертв! Я видел его – он был мертв уже тогда, когда ты вынул его из жилы. Даже мы не знаем, как вернуть жизнь мертвому камню! Мастер, как ты это сделал?! - Всего лишь сделал, как ты сказал – постарался услышать его душу… Он был мертв, да. Я не сразу понял это. Но когда понял… Мне стало жаль его, господин. Я не жалел так о разбитом камне, который ты унес с собой – у него была надежда. У этого – не было. И тогда я постарался представить себе, каким мог бы быть этот камень, если бы не погибла его душа. Я увидел это. И два месяца вслепую гранил его, потому что не мог делать этого с открытыми глазами. В сердце я держал его таким, каким увидел. А руки повторили то, что увидело сердце. Вот и все. Эльф долго молчал, не отрывая взгляда от старика. Потом низко поклонился ему: - Благодарю за урок, учитель… Ты и сам не понял, что сделал… зато понял я. Ты не воскресил душу камня, учитель. Ты дал ему другую. Кусочек собственной души… Этот камень благословен твоей душой и твоими руками… Благодарю, учитель… - Я не смог бы этого сделать, господин, если бы не тот твой урок. И не милость Тигайны. Моей заслуги в этом нет… Расскажи мне, господин, как живешь ты, если моя просьба не дерзость. Женился ли ты на своей возлюбленной? Есть ли у тебя дети? Знаешь, я ведь обручился со своей женой по вашему обычаю – до самой смерти она носила агатовое ожерелье, которое я нанизал на шнурок, сплетенный из моих волос. Ее так и похоронили в нем. А я до сей поры ношу ее оберег – он на шнурке из ее волос… - Я еще не женился, - покачал головой эльф. – Мы не торопимся ни в чем. Но мы думаем пожениться вскоре. До сей поры я гранил тот камень, что ты отдал мне… пятьдесят лет. А ты справился с мертвым камнем за два месяца… Может быть, вы бываете так талантливы потому, что живете так мало? - Не знаю, господин. Это воля богов – кому что они дадут… кому талант, кому бездарность. И удача – сумеет ли человек понять, в чем его истинное призвание. Я делал, что мог…Не откажи мне в чести, проведи эту ночь под крышей моего дома. Мой сын будет рад поучиться у тебя. - Почту за честь, - серьезно ответил эльф, бережно положил камень на подставку и отошел от стола. Кингар положил рядом берилл эльфийской работы. - Пусть пока полежат рядом, - сказал он. – Они братья, им найдется о чем поведать друг другу. Пойдем, посмотрим, чем угостит нас сноха… Утром эльф поднялся в спальню мастера. Два камня лучились на подставке, Кингар сидел рядом, глядя на них. - Мне пора уходить, учитель, - сказал эльф. – Благодарю за кров и угощение. Знаешь, женщины в твоем доме готовят ничуть не хуже, чем у нас… - Мне тоже пора уходить, - отозвался Кингар. – Я всю ночь сидел здесь и думал… Скоро я уйду, и хозяином здесь будет мой сын. Но если я оставлю ему этот камень, он никогда не сможет в полной мере проявить свой талант – потому что не сможет повторить то, что сделал я, и перестанет верить в себя. Забрать самоцвет с собой в могилу я тоже не хочу – он живой, а хоронить живых не дело. Ты сказал, что скоро твоя свадьба, господин. Возьми его и подари своей возлюбленной – от меня и моей покойной жены. Ты говоришь, я вложил в него свою душу. Что ж, пусть эта душа еще походит по свету… Он говорил голосом, не допускающим возражений, и эльф только молча кивнул. - Тогда прими мой камень в дар твоему сыну, учитель, - тихо сказал он. – Я буду рад вручить его достойному наследнику такого великого мастера… Кингар ответил таким же молчаливым кивком. Эльфийский берилл остался на подставке. Оживший самоцвет скрылся в нагрудном мешочке эльфа. Через несколько месяцев сын Кингара похоронил отца рядом с могилой матери и стал хозяином в доме. Найденный в спальне старика камень он берег как величайшую драгоценность, дал ему имя Гир – Звезда, и это сокровище впоследствии передавалось из поколения в поколение в роду мастеров Кингаров – потому что старший сын в семье неизменно наследовал имя родоначальника. Умение гранить растрескавшиеся при добыче самоцветы было их фамильным секретом и принесло немало славы и денег этому роду. Судьба камня, в котором жила душа старого мастера, осталась неизвестной. -------------------- Моя точка зрения - прицел.
Просто язва. Ничего личного. Мы еще повоюем. 181 Inc Есть три вещи, которые многие люди не умеют делать с достоинством - проигрывать, стареть и умирать. (с) |
|
|
|
 20 Сентябрь 2007, 17:24 20 Сентябрь 2007, 17:24
Сообщение
#6
|
|
|
Шехерезада 181 ИЛЭ Группа: Бывалый Сообщений: 1344 Регистрация: 10 Июнь 2007 Из: Кокпит Пользователь №: 6752 Раса: Мандалорианка |
Берегиня.
В Оренбурге живет мой хороший знакомый, замечательный поэт, Валерий Николаевич Кузнецов. Из его стихов мне особенно нравится одно. Оно называется "Легенда". Поскольку оно имеет непосредственное отношение к моему рассказу, я осмелюсь привести его здесь целиком. Перемоет посуду. В дому приберет. В холодильник поставит оставшийся ужин. И растерянно взглядом вокруг поведет, И на спящих посмотрит - и сына, и мужа. И к окну подойдет, И прильнет, И замрет, И почудится вдруг, как легко, без усилья Свежий ветер порывом окно распахнет - И поднимут ее лебединые крылья! Покачнется земля (как она дорога!), Чабрецовые волны обнимут земные, На ночные она полетит на луга, На казачьи луга полетит заливные! Там, где неба с землею волнуется связь, Серебром протекли лебединые клики - Как душой бы сейчас она вслед понеслась В белозвездный простор, до безумья великий!.. ...На седой чернобыл, как подранок, падет. И кружится по лугу, что делать, не зная, - И тоскует, И смотрит, И крыльями бьет, Провожая во тьме белоснежные стаи. Прочитав это стихотворение, я поняла, что не знать мне покоя, пока я не напишу об этой женщине. Женщине, которая была птицей. Насколько мне это удалось - судить вам. *** В ночи пели крылья. Этот тихий, волнующий, ни с чем не сравнимый звук едва ли мог потревожить человеческий сон, но ее слуху был внятнее громового раската. Лебеди возвращались. Осторожно откинув одеяло, она выскользнула из постели и с минуту постояла, прислушиваясь к сонному дыханию мужа. Мужчина пошевелился, вздохнул, пробормотал что-то во сне и снова затих. Больше ничто не нарушало молчания ночи. Кроме переливчатого свиста ветра в лебединых крыльях. Она пробралась в маленькую кухню, ощупью нашла и набросила на плечи огромную шаль - плод долгих зимних вечеров. В месяце Светлых Ночей ночи, может, и светлы, но все еще бывают морозны. С тихим скрипом открылась дверь и закрылась снова. Прошелестели, удаляясь, осторожные шаги. И вновь тишина. Но в ночи звенели крылья... Она знала эту дорогу, как линии на своей ладони, как золотистые звездочки вокруг зрачков кареглазого мужа, как смешной, похожий на птичий хохолок, завиток на макушке маленького сына. Она ни разу не споткнулась и не оступилась, пробираясь по ней, но каждый шаг отдавался болью. Этой дорогой она однажды пришла к людям. На лугу, еще не просохшем после схода снегов, она остановилась и посмотрела в небо. Крылья звенели уже прямо над ней, и в эту песню вплетались скорбные клики. Лебеди узнали ее. Стая наплывала шелестящим, свистящим, рыдающим облаком, мерцающим в ночи. Огромные белые крылья мерно вздымались и опускались, рассекая тугой простор, и нестерпимая боль полоснула по сердцу, когда она, позабыв обо всем, рванулась навстречу, распахивая крылья... Которых у нее больше не было. Упав на мокрую, холодную землю, поросшую редкой щеточкой первой травы, она застыла в немом отчаянии. Боль была так велика, что она не могла даже плакать. Опустошенная, ослепленная, сломленная, она лежала и слушала, как вдали затихают крылья. Ей хотелось умереть. Но если она позволит своему сердцу остановиться, уже этим летом юная берегиня вынет черный жребий и пойдет к людям, навсегда простившись с надеждой взлететь в ночное небо. Маленький мальчик со смешным завитком на макушке вырастет без материнской любви и ласки, навсегда затаив в душе неизбывную горечь и ощущение, что его предали. А сильный мужчина, спящий сейчас в их маленьком доме у дороги, в доме, где все сделано их руками с любовью и заботой, погрустит и утешится с другой женщиной, которую не будят дважды в год лебединые перелеты... Утешится - но никогда уже не сможет поверить до конца. Умирать было нельзя. Но ей хотелось умереть. И когда отчаяние уже готово было сомкнуться над ней подобно медленной, тяжелой воде весеннего половодья, теплые ладони опустились на ее плечи. - Что с тобой? Что с тобой, родная? И нестерпимая боль выплеснулась слезами - впервые в жизни. Откуда было ей знать, что все эти годы мужу было известно: его жена уходит ночами из дома? Откуда было ей знать, что он не спит, а лишь притворяется спящим, и ждет, пока она вернется, несчастная и продрогшая, и греет своим телом ее половину постели, чтобы ей было тепло, когда она тихонько скользнет под одеяло? Нет, он не знал, кого получил в жены. Но он тоже не был простым человеком. У него было зрячее сердце. Ложь, измену он распознал бы сразу. Но женщина, делившая с ним ложе, дважды в год уходила из дому не за краденым счастьем. Ее вела боль, причины которой он не знал, и он боялся спросить, чтобы не причинить еще худшей боли. Впрочем, если бы он и спросил - как бы она могла ему ответить? Он мог только молчать, ждать и согревать ее половину постели. Только этой ночью неведомая сила толкнула его вслед за ней. Ему легко было идти за белой шалью жены, и он увидел, наконец, куда она ходит - на тот самый луг, где он подобрал ее когда-то, совсем юную, испуганную, неспособную говорить. Он знал, что такое бывает, когда неокрепшая, слишком ранимая душа сталкивается с чем-то для нее невыносимым. Он взял ее с собой, приютил. Со временем она успокоилась, перестала всхлипывать во сне, и однажды сама пришла к нему на ложе. Так он узнал, что над ней не было совершено насилия - она была невинна до этой ночи. Но говорить она так и не начала. Даже имени ее он не знал. Он хотел сам дать ей имя, называл одно за другим, самые красивые, какие мог вспомнить или придумать, но она только качала головой. Со временем он оставил эти попытки и стал звать ее просто - жена. Она не возражала. Потом она родила ему сына. И вскоре в первый раз ушла ночью. Глядя на нее, он подумал, что теперь знает причину ее боли: она приходит сюда в надежде вернуть утраченный дар речи. Он знал, что и такое бывает, и знал, что власть этого зова неодолима. Он подумал еще, что этого следовало ожидать. Но того, что случилось дальше, ожидать он не мог. Он услышал лебединые клики. Над лугом, едва не задевая крыльями маленькую фигурку женщины, пролетали лебеди. Огромные, серебрящиеся в ночи птицы. Она раскинула руки и ринулась в небо, и белая шаль взметнулась над ней, как крылья... На миг ему почудилось, что она сейчас взлетит и умчится со стаей. Он узнал - не мог не узнать! - этих птиц, о которых слагают легенды. В родные места возвращались берегини, девы-лебеди, живущие двойной жизнью - птичьей и человеческой. Он знал, что берегинями иногда становятся маленькие девочки. Он знал, что раз в поколение берегини мечут жребий - кому уходить к людям, кому всю жизнь стонать по утраченным крыльям, чтобы остальные не забывали: крылья даны им не только для радости полета. Берегини хранили землю, на которой живут, от всякой напасти, будь то засуха или гнилое лето, град или наводнение, мор или война. Берегини спасали неосторожных пловцов, выводили к дороге заплутавших путников, помогали найти пропажу и лечили болезни. И когда они улетали на зиму, хотя бы одна должна была оставаться, чтобы хранить их дом. Берегинь почитали, но горе той, в которой распознали бескрылую берегиню! - ей навсегда оставаться одинокой, потому что лебедью ей уже никогда не быть, а люди ее не примут. Почитать будут по-прежнему, за помощью в трудный час обратятся, но никогда не признают своей. Никогда ей не обнять мужа, не приложить дитя к груди... Никогда - холодное слово, страшное... Его жена - берегиня! Он поискал в себе страх или отчуждение, больше боясь найти их, чем увериться в своем открытии. Но ничего, кроме нежности и сострадания, не нашел. От того, что когда-то летала серебристой птицей в ночи, она не перестала быть его женой и матерью его сына. В ней ничего не изменилось. Ничего не изменилось и в нем. Он уже хотел отвернуться, чтобы уйти незамеченным и согреть постель к ее приходу, но увидел вдруг, что она падает, как подкошенная, и белая шаль сбитой влет птицей ложится в грязь. Прежде, чем он успел осознать это, ноги сами понесли его через луг. - Что с тобой? Что с тобой, родная?.. Потом он нес ее на руках, плачущую навзрыд, прижимая к себе, шепча что-то невнятное и ласковое, готовый на все, лишь бы унять ее горе. У него было зрячее сердце - он мог представить себе, каково лишиться полета. Дома он завернул ее в теплое одеяло, сшитое ею же из мягкой шерсти, которую оставляют на кустах и деревьях линяющие звери, и баюкал, как ребенка, пока она не перестала дрожать и не уснула. Тогда он бережно уложил ее на постель и лег рядом, обняв, как в первые дни их любви - крепко-крепко... Утром он проснулся, почувствовав, что она уже не спит. Он открыл глаза. Она смотрела на него ясным взглядом, в котором не осталось и следа былой тоски. Он хотел спросить, как она себя чувствует, но она приложила палец к его губам. - Сеана, - сказала она. - Меня зовут Сеана. И он впервые увидел ее улыбку. Натанна. Ветер за окном был свирепым, пиво - холодным, а повар - заспанным и ленивым. Пока он гремел на кухне горшками и раздувал огонь, чтобы подогреть остатки ужина, Натанна прихлебывала крепкое, густое темное пиво из почерневшей от долгого употребления деревянной кружки. Она надеялась, что хмель позволит ей хоть немного согреться. Известие застало ее в дороге, она не успела ни завернуть домой, ни хотя бы пройтись по рынку в поисках распродажи теплой одежды, и теперь тщетно куталась в легкий плащ, совсем не предназначенный ни для такого пути, ни для такой погоды. Когда она покидала город, цветы распускались под яркими солнечными лучами, птицы захлебывались щебетом, и как-то совсем не думалось о том, что скоро небо нахмурится, а пронзительный ветер принесет с севера низкие свинцовые тучи, набрякшие колючим дождем. Цветочные холода застигли Натанну в двух днях пути от границы. Целых два дня! Под осевшим небом, под ледяным дождем и ветром, пронизывающим насквозь, без теплой одежды... Что, если она заболеет? Переждать? Холода недолго тревожат эти края, два-три дня - и солнце вновь улыбается озябшей земле. Но есть ли эти два-три дня у н е г о?.. Натанна старалась не думать о худшем, но страшные мысли поневоле приходили на ум. Война... Между Акаром и Лаксором стычки не прекращались никогда. Акарцы угоняли людей и лошадей: лаксорские скакуны были лучшими... после арханских, разумеется, а люди пополняли ряды рабов на сахарных плантациях. Лаксорцы отбивали своих, крали акарских девушек, которые красотой славились не меньше, чем арханские скакуны, а еще привозили из набегов драгоценный сахар. Тростник рос во многих местах, но только в Акаре получали сахар с чуть заметным нежно-розовым оттенком и отчетливым ароматом цветущего шиповника. Рабы говорили, что цвет сахару придает пролитая ими кровь... На этот раз была не стычка. Настоящая война. Горели села, выли матери над сыновьями и жены над мужьями, имперские войска шли к границе, навстречу им двигались акарские поводыри собак, головы пленных по обе стороны границы смотрели мертвыми глазами с воткнутых в землю пик... Натанна не стала удерживать сына, когда он собрал в полотняную сумку инструменты, бинты, запасы трав, пузырьки с настойками; она не имела права удерживать его. Но каждый день ездила в храм - молиться за сына. За всех сыновей, которые сейчас шли на войну. Она возвращалась из храма, когда запыленный гонец принес ей страшную весть: ее сын в плену. Целитель, никогда в жизни не бравший оружия в руки, захвачен отрядом Абдала вместе с ранеными, за жизнь которых он боролся, и будет казнен вместе с ними. Натанна повернула коня и поехала на юг. Так началась ее дорога в неизвестность. Она не стала тратить время на сборы - что, если именно этих часов не хватит, чтобы успеть? Через день ее догнали двое слуг, самых верных из всех. Они привезли деньги, привели лошадей, нашли акарского мальчика-проводника. Но не догадались прихватить теплую одежду... Слуги считали, что госпожа едет за телом сына. Она не пыталась разубеждать их: знала - бесполезно. Но подспудной, неразрывной связью матери с ребенком она чувствовала - сын жив. Жив до сих пор. Постепенно озноб перестал сотрясать ее, хотя теплее не стало. Натанна была рада и этому. Повар поставил перед поздними постояльцами блюдо с жарким, зевнул, посмотрел на съежившуюся Натанну и снова скрылся на кухне. Вскоре он вернулся с кувшином травяного отвара, благоухающего цветочным медом - "не захворала бы, госпожа", - спросил, не нужно ли еще чего-нибудь, еще раз зевнул и отправился под теплый бок супруги - досматривать прерванный сон. У Натанны не было аппетита, но она заставила себя съесть несколько ломтей ноздреватого серого хлеба с мясом и овощами, выпила кружку горячего отвара. Ей нужны были силы, все силы, какие она только сумеет собрать. И она обязательно должна уснуть. Бессонница отнимает силы наравне с голодом. Чем она поможет своему мальчику, если у нее не будет сил?.. Натанна поднялась в приготовленную для нее комнату. Хозяин, разбуженный среди ночи, поворчал, но расстарался - комната была чистая и хорошо протопленная, окна еще не открывали с зимы, и сквозняки не гуляли от стены к стене. Раздевшись, она завернулась в подбитое кроличьим мехом одеяло и закрыла глаза. Слугам постелили у двери на камышовых циновках. Ночлег в компании двух мужчин (мальчик не в счет) был верхом неприличия, но о каких приличиях могла сейчас заботиться несчастная мать? Можно было, конечно, снять для слуг отдельную комнату, но что, если именно этой ничтожной суммы не хватит, чтобы выкупить жизнь сына? Или хотя бы его тело... Тихо вошли слуги, ожидавшие, пока ляжет госпожа, расположились на циновках, перебросились парой слов, и засопели, согреваясь под теплым мягким войлоком. Натанна вздохнула и погрузилась в воспоминания. Вот его, крохотного - на ладонях поместится - показывает ей повитуха. Единственный, родившийся живым из всех ее детей, появившийся на свет раньше срока, красный, сморщенный, едва сумевший запищать, но самый прекрасный на свете ребенок. Комочек, кусочек ее сердца, ее плоти, ее души, весь - от завитка на макушке до крохотных розовых пяточек выросший их нее, из ее чаяний, тревог и любви. Вот он таращит глазенки и тычется широко раскрытым, как клювик птенца, ротиком, промахивается мимо соска, сердито хмурит крошечные бровки, наливается гневным румянцем, готовясь возмущенно завопить... и вдруг находит то, что так жадно искал. Гнев забыт, пальчики хватаются за кожу на груди, и малыш сладко жмурится, причмокивая - самый счастливый ребенок на свете... Вот он разглядывает свои кулачки, крутит ими, медленно сжимает и разжимает пальцы, и такое изумление в его глазах: у него есть руки! А вот и ножки нашлись - поймал крохотную, с пельмешек, ступню и тащит ее в рот, почесать зудящие десны. Натанна улыбалась во сне. По дороге ее не раз останавливали разъезды. Она говорила, что едет за сыном, и ее пропускали. Какими бы ни были отношения между Лаксором и Акаром, материнство здесь уважали. Дозорные качали головами, провожая взглядом маленькую женщину на изможденной лошади. Они знали - она едет напрасно. Будет еще и пограничная застава, подумала Натанна, выбираясь из теплой постели. Немного болела голова, но от вчерашнего озноба не осталось и следа. Слуг уже не было - седлали лошадей, во дворе слышны были их голоса. Спускаясь по лестнице, она еще раз с беспокойством подумала о том, что на границе ее могут не пропустить, придется искать объездную дорогу, а это - время, драгоценное время… Завтрак ждал на столе. Натанна ела, не чувствуя вкуса, прихлебывала горячий отвар, запасаясь впрок теплом. Оставила на столе несколько монет - плату за ночлег и стол. Поднялась, пошла к дверям... - Госпожа! Натанна обернулась. За ней спешил повар со свертком в руках. - Госпожа, тут... - он застеснялся, сунул ей в руки свою ношу. - Я подумал: холодно, а ты налегке. Плащ ношеный, но теплый, возьми, госпожа… - Спасибо, добрый человек, - серьезно сказала Натанна. Коснулась его плеча, накинула плотную шерстяную ткань, пропахшую корицей, и стремительно вышла за дверь. На заставе ее выслушали и пропустили. Впереди был Акар, где-то там, среди его болотистых равнин, ее ждал сын. Натанна придержала коня, осматриваясь и прислушиваясь - что подскажет ей сердце? - Госпожа, - кто-то тронул ее стремя. - Госпожа! Она опустила взгляд. Рядом с ее лошадью стоял Эли, мальчик-проводник. Почему-то всякий раз, заговаривая с ней, он слезал со своего норовистого конька горской породы, и держал его под уздцы, глядя снизу вверх большими темными глазами. - Что тебе, малыш? - спросила Натанна. - Госпожа, я слышал на заставе, что Абдал дал клятву никого не отпускать - ни живым, ни мертвым. Воины говорили, когда ты уже отъехала. А я подпругу подтягивал, задержался и услышал. Госпожа, Абдал не отдаст тебе сына ни за какие деньги! Он скорее умрет, чем нарушит клятву! Сердце Натанны болезненно сжалось - дурные вести. - Спасибо, Эли. Хорошо, что ты предупредил меня. Но я попытаюсь. Поехали. Она тронула лошадь, но мальчик бросил своего конька и повис на уздечке с отчаянным криком: - Госпожа!!! Подожди, госпожа! Я... я обманул тебя! Я не знаю дороги! Я думал, мы доедем до границы, а там я убегу и буду сам искать дорогу. Я сын Абдала, госпожа! Единственный сын. Меня схватили лаксорцы, хотели обменять на кого-то, а я убежал от них, но не знал, куда идти. И тут меня нашли твои слуги и взяли проводником… - Что же ты не убежал, Эли? - мягко спросила Натанна. - Ты... ты добрая, госпожа! Я уже почти раздумал убегать, хотел просто сознаться, что никакой я не проводник. А тут воины заговорили про клятву отца. Госпожа, возьми меня к Абдалу, может, он отдаст тебе сына в обмен на меня... - О чем ты говоришь, Эли? - тихо сказала Натанна. - Как я могу не взять тебя к отцу? Садись в седло, нам надо ехать. Мальчик кивнул, отпустил лошадь Натанны и пошел ловить своего конька, который уже щипал траву шагах в двадцати от них. Конек немного поартачился, но дал себя поймать, и вскоре маленькая кавалькада двинулась внутрь страны. Акарцы уважали материнство не меньше лаксорцев. До ставки Абдала Натанна добиралась еще два дня, и весь этот путь был сплошной чередой грозных окликов, недоуменных вопросов и почтительных поклонов. На спутников Натанны не обращали внимания - мать, ехавшая за сыном и не проливавшая слез, была явлением настолько фантастическим, что, пролейся с неба золотой дождь, акарцы были бы менее потрясены. Еще до того, как Натанна сделала первую ночевку на акарской земле, к Абдалу помчался гонец с вестью о матери пленного лекаря. Меняя коней через каждые пятнадцать-двадцать верст, он почти на сутки опередил Натанну. Абдал выслушал гонца, подарил ему перстень и велел разбить палатку на окраине лагеря. И когда Натанна добралась до ставки Абдала, ее сразу отвели к полководцу, начавшему уже от нетерпения покусывать свою завитую бороду, а слуг и мальчика проводили в палатку, накормили и велели ждать госпожу. - Мне сказали, госпожа, что ты едешь выкупить жизнь сына, - сказал Абдал, усаживая гостью и садясь напротив нее. - Или его тело, - ответила Натанна, принимая чашу с прохладительным напитком. - Мне сказали, что ты убиваешь всех, кого взял в плен. - Тебе верно сказали, госпожа. Зачем же ты ехала? - Сердце говорит мне, что он жив. - Мне нечем утешить тебя, госпожа. Твой сын жив, потому что был ранен мой отец. Теперь он здоров, и твой сын умрет. - Но разве ты поклялся убивать не воинов, Абдал? Мой сын не воин. Он целитель, и никогда никого не убивал. Что он сделал тебе такого, за что его следовало бы казнить? - Он лечил моих врагов, госпожа. Он ставил на ноги тех, кто уже стоял этими ногами в могиле. Из-за него мне приходилось убивать лаксорских шакалов дважды и трижды. Это ли не вина? - Разве он не лечил так же и твоих воинов? Разве спасение твоего отца - не достаточная плата за жизнь? - За спасение моего отца он уже получил свою награду, госпожа, - покачал головой Абдал. Он прожил много дней после того, как попал в плен. Все его товарищи давно мертвы, а он дожил до твоего приезда. Могу лишь обещать, что он умрет легко. Те псы, которым его отдадут, убивают сразу. Им не позволять его сожрать. Это все, что я могу для тебя сделать, госпожа. Ведь я даже не знаю, сколько умирал мой сын, и как его похоронили… - Тебе нечем утешить меня, Абдал, - сказала Натанна, - но мне есть чем утешить тебя. Твой сын жив. Абдал чуть не выронил чашу. Его пальцы, стиснувшие дорогой фарфор, побелели от напряжения. - Я не ослышался, госпожа? - Твой сын жив, - повторила Натанна. - Его зовут Эли, ему девять лет. Я видела его и говорила с ним. Его хотели обменять на пленных, но он сумел сбежать. Абдал осторожно поставил чашу на ковер и закрыл глаза. Он молился. Натанна подождала, пока он придет в себя, и осторожно спросила: - Ты мстишь за него, Абдал? Военачальник молча кивнул. - Но теперь тебе незачем мстить. Эли жив, он вернется к тебе. Почему бы тебе не отпустить моего сына? Я могла бы заплатить выкуп. Я богата… - Я не нуждаюсь в золоте, - был ответ. - Ты не понимаешь, госпожа… я поклялся. Даже если сейчас Эли войдет в мой шатер и сядет рядом со мной, и тогда я не смогу вернуть тебе твоего сына. Я дал слово, госпожа, я его не нарушу. Натанна тихо поставила чашу и поднялась. - Я понимаю, Абдал. У мужчин странные представления о чести. Думаю, если бы вы могли рожать, вы не так легко рассуждали бы о жизни и смерти… Это мой единственный сын, Абдал. Все дети, которых я носила под сердцем, рождались мертвыми. Только этот остался жить... Отдай мне его, Абдал. Именем твоего Бога прошу тебя об этом... - она замолчала, увидев его глаза. - Мне сказали, госпожа, что с тобой приехал акарский мальчик. - Да, Абдал, - ровным голосом ответила Натанна. - Это мой проводник. Его отец здесь, я обещала доставить мальчика к нему. Я это сделала. - Ты воистину великая духом женщина, - вздохнул Абдал. - Мне искренне жаль, госпожа. Но я поклялся. - Могу я хотя бы обнять его перед тем, как он умрет? - без всякой надежды спросила Натанна. - В этом я тебе отказать не могу, - Абдал склонил голову в поклоне. - Проводите госпожу. Только проследите, чтобы у нее не было оружия... Ее сын не доложен умереть до казни. Натанну провели к шатру, где держали ее сына, наскоро обыскали, на всякий случай отобрали пояс. Натанна терпеливо ждала, пока ее впустят, потом вдруг, словно спохватившись, повернулась к начальнику стражи. - Я забыла спросить... Я хочу передать сыну этот оберег, - она показала на ладони кусочек кожи, вышитый бусинами черного, белого и красного цвета, на тонком волосяном шнурке. - Нужно, чтобы он был с сыном, когда его казнят. Для вас это не имеет значения, но... у нас верят, что тогда душа его обретет покой. Начальник подумал, повертел в руках оберег, ковырнул кожу ногтем, убедился, что в ней ничего не зашито, и пожал плечами: - Абдал велел проследить за оружием. Про обереги он ничего не сказал. Если так велит ваша вера… почему нет? Не думаю, что Абдалу нужен неупокоенный дух в его лагере. - Спасибо, - сказала Натанна. - Для нас это очень важно. Мне можно войти? Начальник стражи кивнул. Натанна поклонилась, приподняла тяжелый войлочный полог и скользнула внутрь... Казнь совершилась на закате. Она молчала, странная женщина с Севера, когда ее сына привязывали к столбу. Она молчала, когда поднялась дверца клетки, и акарские псы-людоеды, натасканные на беглых рабов, выкатились на волю мохнатой белой лавиной. Она молчала, когда острые клыки рвали обнаженное тело сына в кровавые лохмотья. И когда собак отогнали, она тоже не проронила ни звука. Ни один из воинов не посмел осудить ее за молчание, хотя акарская мать на ее месте рвала бы на себе одежду и выдирала клочьями волосы, а слезами затопила бы лагерь. Было в этом молчании нечто такое, что ставило ее, слабую женщину, на одну ступень с закаленными воинами. Абдал подошел к Натанне, увидел в ее сухих глазах немое страдание и отвел взгляд. - Ты позволишь мне хотя бы взять его тело? - спросила она. - Мне жаль, госпожа, но я не могу отдать тебе и тела. Обещаю, что мы похороним его как воина, павшего в бою, с почестями. - Тогда позволь мне провести рядом с ним эту ночь. Абдал не посмел ответить отказом. Никто из воинов, видевших это, не мог удержаться от слез, когда маленькая женщина села у столба на землю, подняла голову сына и прижала к своей груди. Когда совсем стемнело, от столба послышался тихий, ласковый голос матери, поющей колыбельную. Те, кто понимал лаксорский, объяснили товарищам, что это именно колыбельная: мать уговаривает сына не бояться ночной темноты, ведь она рядом, а ночь скоро кончится, и все страхи останутся позади... Племянник Абдала выслушал перевод, плюнул дяде под ноги и крикнул: - Создатель отвернется от тебя из-за твоей клятвы! За такое прежний Абдал снес бы голову любому, не разбирая родства. Нынешний Абдал тихо ответил: - Я знаю. Но я поклялся. Утром Натанна еще сидела у столба, баюкая сына, когда к ней подошел Эли - и отпрянул, ошеломленный. - Госпожа... Натанна бережно опустила на землю голову сына и поднялась. - Госпожа, почему ты не сказала ему обо мне?! - Я сказала, Эли. - Тогда почему он убил твоего сына?! - Потому что он поклялся... Даже если бы я привела тебя за руку, и тогда мой сын умер бы, Эли. Я не стала торговаться. - Почему?! - Потому что я мать, Эли, а ты любишь отца, и он тебя любит. Я не могу торговать вашей любовью даже ради собственного сына. Ты хотел к отцу - я привезла тебя к нему и рада, что хотя бы вы будете счастливы. Иди к Абдалу, Эли, утешь его… - Ты... ты не убьешь меня?! Натанна отшатнулась. - О чем ты говоришь, Эли?! Как ты мог даже подумать об этом? Зачем мне убивать тебя? Разве мой сын от этого вернется к жизни? Иди, Эли, шатер твоего отца вон там, ты легко найдешь его. Иди и будь счастлив. А я побуду еще немного с моим мальчиком... Эли всхлипнул... и никуда не пошел. Подошли воины, но не решились торопить Натанну. Подошел начальник стражи, посмотрел, ушел к Абдалу. Вскоре военачальник вышел из шатра, неторопливо приблизился, встал за спиной у Натанны. - Госпожа, тебе пора, - сказал он, коснувшись ее плеча. - Мы похороним твоего сына, как подобает. Натанна молча кивнула, позволила воинам забрать тело и повернулась к Абдалу. - Ты не отдал мне моего сына, так хоть возьми своего, - подтолкнула она Эли, ухватившегося за ее юбку. - Я посылала его к тебе, но он не идет. Абдал едва не лишился дара речи, увидев сына, которого считал навсегда потерянным. Он упал на колени. - Эли?! Дитя мое, сердце мое, ты жив! Какое чудо вернуло тебя? Иди ко мне, дай обниму тебя! - вырвалось у него наконец. Эли не сдвинулся с места. - Зачем ты убил сына госпожи?! - гневно крикнул он, глядя на отца. - Он дедушку вылечил, а ты его убил! Теперь будут говорить, что у акарских людоедов больше благодарности в сердце, чем у тебя! Госпожа привезла меня к тебе, а ты... ты... Эли смолк, дрожа всем телом. - Так это был ты... - Абдал как-то враз обмяк, сгорбившись и постарев на глазах. - Я должен был догадаться... Дитя мое, я думал, что лаксорцы убили тебя вместе с твоей несчастной матерью, и поклялся, что ни один из них не уйдет из моих рук - ни живым, ни мертвым. - А если бы она сразу сказала, что привезла меня, ты отдал бы ей сына? - требовательно спросил мальчик. Абдал медленно покачал головой. - Я поклялся. - Так отдай хотя бы тело, или... или ты мне больше не отец! - выпалил Эли и сам испугался своих слов. Но отступиться от сказанного его не заставил бы и сам Создатель - Эли был истинным сыном своего отца. К тому же... Легко было говорить "лаксорские шакалы", играя в материнском саду с детьми слуг в войну. Легко было ненавидеть, когда его, воющего и царапающегося, оторвали от тела матери и увезли, как теленка, бросив поперек седла. Но как ненавидеть женщину, постаревшую за одну ночь, мать, поющую колыбельную мертвому сыну? Абдал не поверил своим ушам. - Эли... ты от меня отречешься ради лаксорца? - Нет. Ради того, кто спас дедушку. Ради госпожи - она могла бы убить меня на твоих глазах, и была бы права! А она сказала мне: "Иди, утешь отца". - Эли, - Натанна присела перед ним на корточки, взяла его лицо в ладони, повернула к себе - несчастного, взъерошенного. - Эли, но ведь Абдал - твой отец. Он любит тебя и очень тобой дорожит, иначе не дал бы такую клятву. Он мстил за тебя лаксорцам - он думал, что они убили тебя. - А мне что теперь делать?! - выкрикнул Эли. - Он поклялся, а те, кого он замучил, приходят ко мне ночью и показывают свои раны! Они говорят, что это я убил их! Я не хочу отца, который дурацкой клятвой дорожит больше, чем сыном! Если он не отдаст тебе хотя бы тело, госпожа, пусть считает, что сына у него никогда не было! - Эли вырвался, сел и спрятал лицо в ладони. - Эли... - Натанна села рядом. - Эли, но что ты будешь делать без отца? Ты хотел к нему - я привезла тебя. А куда ты пойдешь теперь? Эли серьезно посмотрел на нее своими огромными глазами, полными тоски и решимости. - Возьми меня вместо сына, госпожа. Я буду хорошим сыном, клянусь. Натанна беспомощно огляделась. Воины отводили глаза, Абдал, оглушенный горем, словно превратился в статую. - Что же мне делать? - спросила она. - Если ты не возьмешь меня, я умру от стыда, - сказал Эли. Натанна прижала его к себе. Абдал тихо сказал что-то начальнику стражи, тот убежал, и вскоре вернулся в сопровождении воинов с носилками. - Госпожа, - тихо сказал Абдал дрожащим от горя голосом, - возьми своего сына и отдай мне моего, или я тоже умру от тоски. Я виноват перед ним и перед Создателем, я слишком мало верил. Вместо того чтобы молиться о возвращении сына, я начал мстить... Эли, дитя мое, вернись к своему безумному отцу! От горя я лишился рассудка. Я уйду с тобой в паломничество - благодарить Создателя за твое спасение и вымаливать прощение за мой грех. Натанна посмотрела на Эли. - Если ты захочешь вернуться, я не стану тебя удерживать, - сказала она. - Если захочешь остаться, я не стану тебя гнать. Чуть помедлив, Эли обнял ее, поднялся и шагнул к отцу. Абдал со стоном принял сына в объятья. Натанна молча поклонилась им, подошла к носилкам, подняла тело сына и понесла туда, где уже ждали слуги с оседланными конями. - Как она могла его поднять?! - ахнул кто-то из воинов. - Она такая маленькая... - Она носила его под сердцем, - сказал Абдал. - Разве может ребенок быть в тягость своей матери? Когда лаксорцы скрылись из виду, Абдал поднялся, снял с пояса саблю, сломал ее о колено и бросил обломки в пыль. - Сегодня я нарушил клятву, - сказал он. - Я позволил лаксорцу уйти из моих рук. Отныне я вам не вождь. Он обнял Эли и пошел с ним к шатру. Войско он потерял, зато обрел сына. И был счастлив. Натанна больше не гнала коней - некуда было спешить. Она обнимала сына, следя, чтобы лошадь не оступалась под двойной ношей и не встряхивала его. Оберег все еще висел на шее сына. Натанна перебирала его. Она сама вырезала его из кожи, сама вышивала долгими ночными часами, когда никакие воспоминания не могли подарить ей сон. Всю надежду, весь страх, всю боль и любовь вложила она в этот узор. Она так боялась, что ей не разрешат передать его сыну... В обереге не хватало нескольких бусин. Покрытые красным лаком круглые семена сонной одури совсем не выделялись среди прочих красных бусинок. По крайней мере, он умер, не ощущая боли и страха... Постепенно женщину охватывала дремота - сказывались бессонная ночь и чудовищное напряжение последних недель. Натанна тихонько напевала колыбельную, чтобы душа сына, блуждающая в смертном сне, не заплутала во тьме. Натанне грезился малыш, уснувший у груди. Она еще не знала, что вскоре акарская армия, оставшаяся без лучшего своего полководца, будет разбита, а потом и само государство, раздираемое междоусобицей, развалится и исчезнет. Она не знала, что спустя века ее имя будут помнить в Лаксоре, что матери станут называть дочерей именем Натанны - Матери, Остановившей Войну. Во сне ее малыш причмокивал губами и улыбался. Натанна улыбалась в ответ. -------------------- Моя точка зрения - прицел.
Просто язва. Ничего личного. Мы еще повоюем. 181 Inc Есть три вещи, которые многие люди не умеют делать с достоинством - проигрывать, стареть и умирать. (с) |
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

|
Текстовая версия | Сейчас: 19 Апр 2024, 11:32 |
Рекламные ссылки: Дневники беременности на Babyblog.ru//Бэбиблог - соц сеть для будущих мам //